Умелый, опытный охотник даже диких жителей леса заставит работать на себя.
Такой охотник не мечется по лесу.
Посидит на пеньке, покрытом мягкой моховой подушкой. Постоит, посмотрит кругом, привалившись плечом к шершавому стволу. Вверху тяжёлая зелень листвы. Внизу узорные листья папоротников. И вверху и внизу гоняются друг за другом солнечные зайчики.
Глаза охотника отдыхают. Но без устали работают сейчас десятки быстрых и зорких глаз лесных жителей.
Вот пискнула птичка.
Охотник ладонь к уху — чтоб лучше слышать. Птичка-то особым голосом пискнула — значит, по особому случаю. Значит, что-то страшное для себя увидела. Может, это страшное сейчас в кустах таится, может, неслышно крадётся в траве.
Замри, охотник, это сигнал! Это вернее, чем стойка собаки или позыв утки-крикуши.
Вот вторая птичка пискнула по-особому.
Теперь быстрей туда, на место лесного происшествия.
Подтаись, отведи ветку от глаз, осторожно выгляни из-за шершавого ствола и там, на крохотной лесной полянке, увидишь…
Да мало ли что можно увидеть на полянке в глухом лесу!
Что видано, — обо всём не расскажешь. Разве что вот вспомнить про смешную историю с сойками?
Плёлся по лесу медведь. Медведь на ходу постоянно гудит. Не поймёшь — то ли в брюхе у него урчит, то ли недоволен чем. Ворчит вполголоса.
Башка у медведя седая — немало, видно, по кустам продирался, всю паутину на башку собрал.
А позади, перелетая с дерева на дерево, провожают медведя хрипатые сойки. Пара проводит до края своего гнездового участка и передаёт медведя соседям «из рук в руки». Те — следующим.
Галдят не очень громко, так — брюзжат вполголоса. Но покоя медведю не дают.
Озлел медведь; может, и гудит-то от злости. Торопится.
Давно скрылся медведь за деревьями, а всё слышно, где он. Не отстают проклятые сойки!
Когда я увидел его, разгадал эти крики соек, я подумал, что овладел ключом ко всем лесным тайнам. Кто может укрыться от зорких птичьих глаз? Не поможет теперь хитрость и чуткость тому, кто обманывал меня до сих пор!
В то время в горах объявился барс. Многие слышали его рёв. Но увидеть зверя не могли даже самые опытные следопыты. Зверь был хитёр и чуток.
У меня зародилась дерзкая мысль: а что если найти зверя с помощью лесных разведчиков — соек?
Я стал не спеша ходить по лесу. Подолгу сидел на пеньках.
Глаза и ноги мои отдыхали. Но ухо я держал востро!
И вот однажды, сидя на пеньке, услыхал я неистовый соечий крик — будто их кто за хвосты схватил.
Вскакиваю на ноги и — за ружьё.
На медведя и то вполголоса кричали, а тут орут на весь лес.
Я вдруг ясно представил себе холодные жёлтые глаза и пятнистую, будто в жёлтой чешуе, морду барса.
Сердце замерло: трофей такой — великая охотничья слава.
Редкостной мечтой стал теперь для охотника горный красавец барс.
Быстро вкладываю в ружьё патроны с пулями. На четвереньках, на животе, а где и просто перекатываясь по скату, пробираюсь на крик. Щупаю ногой землю — не хрустнул бы сучок…
Вот просвет в лесу. Шумит по камням речушка. На галечном берегу — валуны. И вижу: сидит на большом валуне сойка с чёрным хохлом, а вторая как сумасшедшая носится вокруг. И обе так орут, так орут, будто увидели медведя и барса сразу.
Взвожу курки.
Вглядываюсь в листву, в папоротники… До слёз в глазах вглядываюсь.
Странно: никого нет…
Вдруг сойка, сидевшая на валуне, взлетела и схватила вторую — сумасшедшую — за хвост! Да нет, не за хвост, а за что-то, что висело у неё на хвосте.
«Что-то» отцепилось от хвоста и упало на гальку.
Тогда обе сойки вспорхнули на валун, вытянули вниз шеи и заорали ещё громче. На кого же это они так?

Да на краба! В бинокль вижу, как краб присел на своих паучьих ножках и выставил вперёд две большие растопыренные клешни.
Сойки налетели разом, схватили его за клешни, дёрнули — и оторвали их. Краб боком-боком побежал к воде, перебирая лапками, как пианист пальцами по клавишам. Сейчас удерёт!
Но не тут-то было!
Одна сойка схватила его с одного боку, другая — с другого.
Началась драка. С криками обе скрылись в лесу.
Я поднялся и вынул из ружья патроны.
Вот и суди по крику! Краб-то на хвосте оказался для соек страшней медведя и барса. Какой шум подняли!
— Хорош мой способ, — усмехнулся я. — Только уж не сердись, если вместо барсовой шкуры крабовой клешнёй завладеешь. Зато отдыхал, на пеньках сидел, глаза, ноги берёг…
Я подошёл, поднял обе оторванные сойками клешни — на память о смешном случае — и шагнул в кусты.
Шагнул, да и замер: на сырой чёрной земле ясно отпечатались круглые следы тяжёлых барсовых лап!
Зверь только что был здесь. Он, видно, как и я, тоже пришёл на шум. Только я смотрел на соек, а он — на меня. Пока я таращил глаза на краба, барс лежал за кустом и следил за мной. Круглые жёлтые глаза его щурились, кончик хвоста вздрагивал. Жёсткие усы, наверное, топорщились в злой усмешке.

И думал барс: «Дурень ты, дурень! Барса — хозяина гор — задумал на глупых сойках поймать! Я не медведь — лесной шатун. Я лежу под деревьями на моховых зелёных диванах и сам слушаю все птичьи разговоры. Птичий язык я знаю лучше тебя… Но тебе повезло: я нынче сыт…»
Дрожащими руками я снова зарядил ружьё и, прикрыв курки шапкой, взвёл их без шума.
Внимательно, не доверяя больше чужим глазам, огляделся кругом. Лес был глух и пуст.
Он умел хранить свои тайны даже от птиц.
У лисьей норы
Захлёбываюсь ветром. Обеими руками зажимаю рот и нос и — тону. Тону, как тонут в бешеной горной реке. Над глыбами камней завиваются смерчики пыли. В скалах рёв, будто обрушиваются на скалы тяжёлые океанские валы. Вот сшибло меня с ног и швырнуло на склон. Поволокло, покатило. Сунуло лицом в какую-то дыру в земле.
Приоткрываю один глаз: дыра — вход в лисью нору. На затоптанном холмике у входа в нору заячьи кости, птичьи перья, мыши. Лисья семья живёт.
Открываю второй глаз — и вдруг в норе, недалеко от входа, вижу живую птицу! Птичка-невеличка, с воробья. Серенькая. Прижалась к стенке норы, хохлится и жмурит тёмный глазок. Нет, не лиса её принесла, — лиса не оставила бы птичку живой. Птичка сама спряталась в лисью нору от бури!
«Ну, брат-птица, — подумал я, — тебе ещё хуже!»
Я спрятал голову за камень и стал ждать конца непогоды. Грохотали в скалах океанские валы. Крутились над камнями чёрные смерчики. Меня засыпало песком и землёй. Песок тёк в уши, набивался в глаза, скрипел на зубах.
Дышу через платок и нет-нет да и приоткрою глаз: как-то там мой товарищ по беде? Ничего. Сидит. Терпит. Но вдруг вижу: птичка вытянулась, пёрышки прижала — стала тоненькой-тоненькой. Глазок насторожила в темноту норы и пятится, пятится к выходу. Выскочила из норы, перескочила на утоптанный бугорок. Ещё чуть — и вихрь сорвёт её, заломит крылышки, помчит по склону, как сухой листок…
А из тёмной норы медленно высовывается мокрый рубчатый нос. Потом два косоватых жёлтых глаза. Лисёнок!
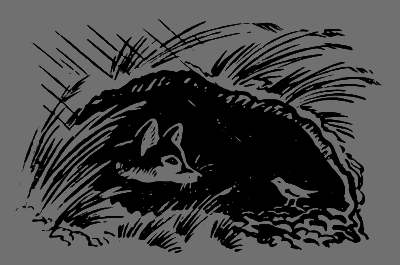
Стукнул я кулаком по земле, — нос и глаза исчезли. Приподнялся, — птичка шмыг назад в нору!
Протянул я к ней руку — не улетает. Жмётся к стенке и клювик разевает от страха.
Взял я тогда птицу в руку. Дрогнуло в ладони горячее тельце. Но не вырывается. Только сердчишко, как часики: тик-тик-тик!
Разглядел я птичку. Горный конёк называется.
— Ну, раз назвался дружком — полезай в карман! — сказал я коньку. И спрятал его в карман.
Два раза ещё высовывался из норы мокрый рубчатый нос. Но я грозил носу кулаком, и нос прятался.
Буря кончилась только к вечеру. Я поднялся. Сплюнул. Вытряхнул песок из карманов, из сапог. Протёр глаза, вычистил уши. Потом достал конька и посадил его на ладонь. Он встряхнулся, скосил на меня глаз. Вспорхнул и полетел рывками, как Конёк-горбунок поскакал.