Двухместная черная карета ждала их у подъезда. Бас и Мирамон сели в нее. Гвардейцы окружили карету.
Карета тронулась. Мирамон, насколько это было возможно, отодвинулся от Баса, прижавшись к дверце.
— Терпеть не могу столь близкое соседство либерала, — сказал он с брезгливой усмешкой. — Обычно я держал их на дистанции выстрела или — в худшем случае — клинка.
— Потерпите. Надеюсь, это ваша последняя прогулка в карете. Пора ответить за пролитую кровь.
— Вы имеете в виду мою рану? — Мирамон насмешливо скосил на губернатора круглый глаз.
— Я имею в виду кровь честных граждан, которых вы убивали. И кровь тех обманутых глупцов, которых вы вовлекли в убийства.
— Крови пролито много, — согласился Мирамон и простучал ногтями по кожаному переплету Ксенофонта, лежавшего на его коленях, сигнал конной атаки. — Крови много… Но вы, сеньор Бас, с вашим плебейским сознанием не можете понять — дело не в самой крови, а в том — за что она пролита. В пролитой крови можно испачкаться, но ею можно и очиститься. Вас пролитая вами кровь грязнит. Нас — очищает. Мы сражаемся за святое дело, а не расстреливаем порядочных людей в тюремных дворах.
— Святое дело! Темная, угнетенная страна, ошалевшие от чванства и безнаказанности генералы, бессовестные и корыстные священники, спекулирующие именем господним…
— Все верно, — Мирамон с удовольствием смотрел на худую дергающуюся щеку Баса. — Все верно. И если бы такие сумасшедшие дилетанты, как вы, не путались у нас под ногами, мы очистили бы Мексику и вернули ей идеал веры и долга. Мы проливаем кровь за идеал, сеньор либерал. А вы — за то, чтобы запутать души в унылую паутину вашей липкой демократии. Бр-р-р! Когда я думаю об этом, мне хочется вымыться с головы до ног!
— Кровью сограждан?
— Нет, теплой водой. Вам, очевидно, незнакома процедура умывания водой? Еще бы! Ведь ваш идол — этот Хуарес — совсем недавно слез с дерева и сразу же, без всякого перехода, облачился в адвокатский сюртук. Неужели он отучил мыться всех своих последователей?
Карету тряхнуло, и их бросило друг на друга.
— Вот Мексика ваших мечтаний, сеньор либерал, — душная теснота, и чтоб при каждом толчке вас кидало на сомнительного соседа. Или его на вас. И чтоб деться было некуда.
Бас засмеялся.
— Я много слышал о вас, дон Мигель, но не предполагал, что вы такой весельчак. Вы что, этим потоком болтовни заглушаете страх перед судом и приговором? Не смею вам мешать — продолжайте!
Мирамон замолчал.
Первое, что увидел Мирамон, когда его ввели в дежурное помещение тюрьмы Ла Акордада, было растерянное лицо лейтенанта Трехо, его бывшего ординарца по XI бригаде…
Дон Бенито Хуарес приказал сеньору Ромеро никого не впускать в кабинет. Он курил, сильно вдыхая дым. Он не умел мыслить абстракциями. Борение идей, борьба политических партий, экономические процессы — что это? Невозможно представить себе всех этих людей — дерущихся, плачущих, копающих землю… Огромный круглый омут лежал по ту сторону большого министерского стола. Вода в нем медленно бурлила, темные мощные струи подымались из глубины, ударялись о черные камни берега и снова уходили в глубину. Медленное, неопределенное круговое движение… Иногда поверхность омута вздувалась, становилась гладкой и выпуклой, со стеклянным вулканическим блеском. И тогда казалось, что вот-вот произойдет что-то, что нарушит это бессмысленное кружение воды, но замутненные полосы быстро проступали на поверхности, она пузырилась, распадалась на мелкие хаотические течения, снова поднимались из глубины могучие бесплодные потоки…
Что-то должно произойти. Страна устанет от однообразия этих мелких политических дрязг, наступит самое страшное для революции — равнодушие народа, у нас самих начнут вяло кружиться головы, бесконечное похмелье после веселого и жестокого праздника с танцами и резней, противно смотреть на мачете, неохота смывать с них шершавые пятна, похожие на ржавчину, неохота работать и противно думать о будущих праздниках… Все так знакомо и не сулит перемен.
Что-то должно произойти. Революция не позволит себе иссякнуть в этой рутине.
Ромеро заглянул в дверь.
— Да, да. Заходите, мой друг. Я отдохнул.
Ромеро своей расслабленной неслышной походкой подошел к столу и положил перед министром тонкую пачку исписанных листов.
— Я суммировал все сведения, поступившие с момента вашего приезда, дон Бенито… Речь идет об антиконституционном движении.
— Хорошо, мой друг.
Ромеро опустил бледное сосредоточенное лицо с непомерно высоким от ранних залысин лбом.
— Все очень странно и очень серьезно, дон Бенито.
— Хорошо, мой друг. Я посмотрю.
Ромеро вышел.
Хуарес медленно перебирал листы. Он и так догадывался… Ах, господин президент, милый Игнасио, с нежными выпуклыми глазами, так часто обращенными внутрь себя, слабый человек, желающий казаться собственным памятником, неплохой генерал и плохой политик, понимаешь ли ты, чем рискуешь?
А ты, Хуарес, мальчишка из Гелатао, понимаешь ли, чем рискуешь ты? Не только своей честью и головой, не только жизнью Маргариты и детей… Понимаю… Но время пришло. Не для меня — для Мексики. Я должен рискнуть. В этой игре уже нельзя играть по правилам. Я, законник Хуарес, юрист по преимуществу, я, закованный в черный сюртук и белый крахмал, я должен разорвать этот круг. Прости, Игнасио, ты идешь к пропасти, ты взялся не за свое дело. Я не могу спасти тебя. Я не пойду с тобой. Я останусь и начну истинную революцию… Простите меня все, кто еще погибнет… Быть может, я — первый… Так не должно продолжаться. Иначе взрыв уничтожит Мексику… Я должен рискнуть! Для того я пришел из Гелатао, для того я не погиб от укуса змеи, не умер от голода, все для того!
Министр внутренних дел лисенсиат дон Бенито Хуарес дернул шнурок. Вошел бледный Ромеро. Хуарес раскуривал сигару. Он бросил спичку и левой рукой протянул секретарю листы.
— Возьмите, мой друг, — спокойно сказал он. — Странного много. Но все еще неясно. Посмотрим…
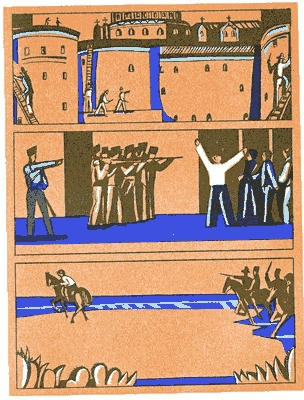
Ромеро с изумлением, столь редким у него, смотрел на неподвижное смуглое лицо. Вежливое и сочувственное внимание выражали глаза Хуареса. Больше ничего.
— Позаботьтесь, чтоб эти заметки не попали в чужие руки. Они могут быть слишком вольно истолкованы. В приемной есть кто-нибудь?
— Да, дон Бенито. Капитан Национальной гвардии из Оахаки.
— Я готов принять его.
Ромеро, не спуская глаз с Хуареса, сделал шаг назад.
СМЫКАЮЩИЕСЯ КРАЙНОСТИ
Сеньор Хуан Хосе Бас был отчаянным радикалом. Нельзя сказать, чтобы он считался крупной фигурой. Но некоторую роль играл. Многим импонировали его энергия, его очевидная решительность, определенность его мнений.
Альварес назначил его губернатором федерального округа, куда входила столица республики. В октябре пятьдесят седьмого его избрали в конгресс. Конституция запрещала депутатам занимать правительственные должности. Басу смерть как не хотелось расставаться со столь важным постом. Но Комонфорт настоял на соблюдении закона. И отношения Баса с Комонфортом с этого момента испортились.
Бас не был вульгарным честолюбцем или карьеристом. Нет, он был человеком идеи. А идея эта вмещала все крайние мнения, провозглашенные депутатами-пурос. Он был таким же антиклерикалом, как Рамирес, и таким же фанатиком аграрной реформы, как Арриага, он ненавидел фуэрос и церковную десятину, черное духовенство и церковное землевладение, долговое рабство и народное бесправие. Эта взрывчатая смесь была снабжена весьма эффективным запалом — дон Хуан считал, что в деле достижения социальной справедливости надо идти напрямик и напролом. Его нервная и страстная натура требовала немедленного и постоянного действия, немедленного утоления жажды справедливости.
Он был уверен, что совершить социальный переворот может только сильная и свободная от ограничений исполнительная власть. Конституция разочаровала его, как и Комонфорта, именно тем, что связывала руки президенту. Президент, который должен постоянно оглядываться на конгресс, не способен к быстрым и радикальным реформам.