Жариков Леонид Михайлович

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Власть в городе менялась почти ежедневно. О том, кто занял город, узнавали по флагам на доме торговца Мурата.
Каждое утро, прежде чем выйти на улицу, нас, малышей, посылали в «разведку». Если над высоким крыльцом развевался красный флаг — в городе наши. Тогда все высыпали за ворота. Если черный — махновцы. Но с тех пор, как наши отступили на Прохоровский рудник, у Мурата все время висел белогвардейский флаг.
Я, как и мои сверстники, жил в городе, занятом беляками, но все время думал, о наших, вспоминал прощанье с отрядом красноармейцев и особенно с дядей Митяем.
Я вспоминал, как дядя Митяй пришел к нам в землянку, увешанный гранатами и перепоясанный пулеметными лентами, хлопнул меня по плечу и сказал:
— Не горюй, Ленька, завтра вернемся! И тогда уж обязательно подарю тебе стозарядный револьвер. Не горюй! Отомстим белякам за твоего отца и мать.
Попрощавшись с Васькой — моим любимым другом, с его отцом и матерью, дядя Митяй ушел, и с тех пор я его не видел и тосковал по нем, как по родному отцу.
И, когда он с Прохоровского рудника обстреливал город и вокруг разрывались снаряды, я радовался этому, как будто он посылал не снаряды, а бросал мне кульки с конфетами.
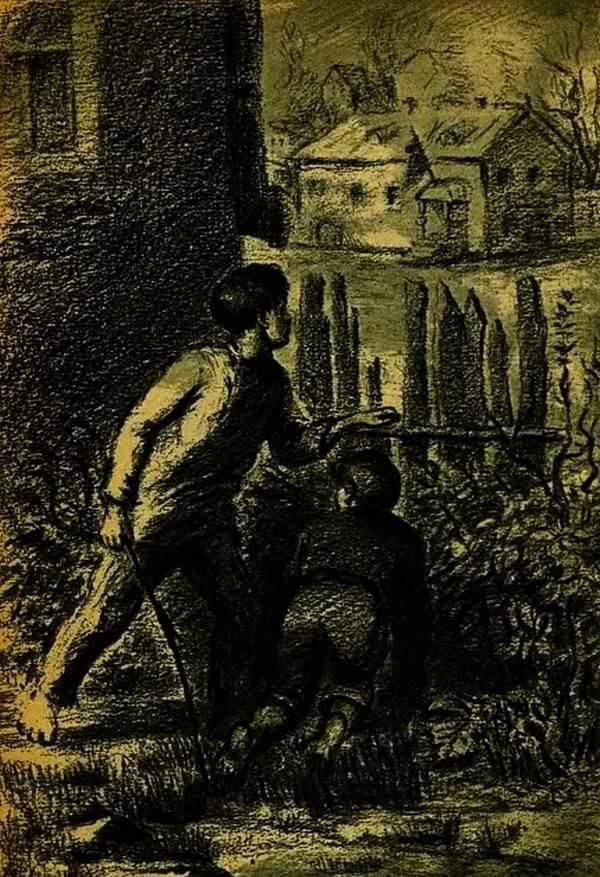
Каждое утро мы с ребятами наблюдали, как дядя Митяй начинал стрелять из пушек. Белые облачка на руднике вспыхивали то из-за шахты, то далеко в стороне, за железнодорожной насыпью. Снаряды летели с разных концов рудника, но мне почему-то казалось, что все их выстреливает сам дядя Митяй. Я даже представлял себе, как он бегает от одной пушки к другой, кричит сам себе: «Огонь!» и только нажимает курки, а снаряды так и вылетают, так и взрываются.
Мы с Васькой не могли допустить, что беляки продержатся в городе долго, и ожидали дядю Митяя с часу на час.
Каждое утро я просыпался с мыслью, что он уже в городе, что сейчас он придет ко мне и скажет: «Ну, орел, получай!» и подарит не сто-, а тысячезарядный револьвер, но белогвардейский флаг попрежнему болтался над кирпичными ступеньками лавки Мурата.
Так продолжалось восемь дней; на девятый утром я созвал ребят на чердаке моего заброшенного дома, в котором жил я с отцом и матерью до того, как их убили казаки.
На чердак пришли только рыжий Илюха и Абдулка Цыган, остальные друзья рассеялись.
Алеша Пупок умер с голоду. Одноногого Учу Банабака убил шкуровский офицер за то, что он, расхаживая по главной улице, пел песню:
Офицер так ударил Учу по виску рукояткой плети, что тот выронил свой костыль, упал и больше не поднялся.
На пустом чердаке за трубой лежал примятый пучок соломы, на котором спал дядя Митяй, когда скрывался от белых.
Мы подошли к слуховому окну и начали осматривать окраину города.
Около завода горел склад снарядов. Огромные белые клубы дыма, круглые, как бутоны, плавно взлетали к небу. Высоко над терриконом бутон быстро развертывался и от пламени казался похожим на красную розу, лепестки которой медленно падали на землю. Немного спустя доносился грохот взрыва.
— Во — бахает! — сказал Илюха и лизнул у себя под носом.
— Ну и бахает! — возразил я. — Дядя Митяй получше умеет.
— Какой дядя Митяй? — спросил Илюха.
— А ты не знаешь?! — возмутился я. — Самый главный в городе. Тот, что до нас ходил. Помнишь?
— От тот лысый? — спросил Илюха.
В это время над самой крышей завыл снаряд и ухнул где-то в Центре города. Мы присели.
— Ого! Это дядя Митяй гостинца белякам прислал, — сказал я.
Ребята засмеялись, и, когда в стороне тонко пропел другой снаряд, Илюха вылупил глаза и крикнул:
— Фунт колбасы белякам на обед!
— Борщу кастрюлю! — не своим голосом завопил Цыган, провожая третий снаряд.
— Огурцов с баклажанами на завтрак!
— Дыню-у!! — надрывались мы, перебивая друг друга и стуча деревянными «босоножками» по чердачному настилу.
Вдруг с улицы донесся отчаянный крик перепуганной курицы. Илюха, выглянувший в слуховое окно, порывисто схватил меня за рукав.
— Шкуровцы!
Мы осторожно высунулись в окно.
По улице мчались на лошадях три шкуровца в черных квадратных бурках, а впереди, распустив крылья, бежала рыжая курица.
Один из шкуровцев бросил в нее чем-то, но промахнулся, другой выстрелил из нагана. Курица подпрыгнула, перевернулась, несколько раз дрыгнула желтыми лапами и затихла.
Третий шкуровец нагнулся с седла, наколол ее на шашку и положил в сумку, висевшую на седле.
— Вот гады, курей наших бьют! — сказал Илюха.
— Споем? — предложил я, подморгнув глазом.
— Споем!
Абдулка Цыган присел под окном и громко запел:
Мы подхватили:
Где-то совсем близко взорвался снаряд. Черепица на крыше загремела. Мы присели, заткнув уши, но песню грянули еще громче.
Когда шкуровцы скрылись в переулке, мы снова высунулись из окошка. Всюду виднелись крыши землянок, поросшие полынью и лебедой. На всей улице было пустынно, как на погосте. Окна землянок были загорожены от пуль подушками. Люди сидели в погребах. В первые дни боев туда выносили только подушки и тюфяки, потом — кровати, столы, и через несколько дней на голубоватых от плесени стенах висели картинки, полотенца, кастрюли. Погреб становился жилой комнатой.
Со дня отступления дяди Митяя на всей нашей улице осталось только четверо мужчин: я, Васька, его безногий отец Анисим Иванович и Абдулка Цыган.
Были еще двое, но их я не считал мужчинами.
Илюха был трус, он по целым дням не вылезал из погреба. Отца одноногого Учи Банабака — старого волосатого грека — я не считал мужчиной потому, что он чистил в городе офицерам сапоги.
Главным из всех мужчин я считал Анисима Ивановича, хотя у него и не было ног. Каждый день с утра до ночи он вместе с Васькой делал босоножки, а по ночам чинил старую обувь, собранную где попало. Готовые пары он относил в сарай и зачем-то засыпал углем.
Только значительно позже Васька объяснил мне:
— Дядя Митяй придет скоро, а обужи у красноармейцев нету. Вот мы и починяем.
Я смотрел из слухового окна на крышу нашей землянки, и мне вспомнилось, как однажды ночью за эту обувь чуть не убили Анисима Ивановича.
К нам пришли четверо. Все они были в черных волосатых бурках. Главный, у которого спереди во рту не было двух зубов, вошел, медленно осмотрелся и, указав на Анисима Ивановича наганом, спросил:
— Сапожник?
— Да, сапожничаю, — ответил Анисим Иванович с кровати.
— Обужа есть? — строго спросил офицер.
— Какая обужа?
— Слепая! Чего дурачком прикидываешься?
— Ну, у сына есть, а мне зачем она? — ответил Анисим Иванович.
Слышно было, как по двору ходили, звякая шпорами. Скрипела дверь погреба. Чем-то гремели в сарае.
— Одевайся! — коротко приказал беззубый.
Васькина мать, тетя Матрена, испуганно бросилась к офицеру:
— Ваше благородие, за что? Ведь он калека!
— Не вой! Цел будет твой калека.
Анисим Иванович сполз с кровати, надел пиджак, шапку и взобрался на свою низенькую четырехколесную тележку.
— А-а-а, у тебя катушек нету? — протянул офицер, глядя туда, где должны были быть ноги Анисима Ивановича. — Ты бы так и сказал.