В трехкомнатной квартире Черновых Цветаевой с детьми отдана одна из комнат.
Улица Руве, 8, — таков ее первый адрес во Франции.
Париж уже был в ее жизни дважды: в 1909 году она приезжала под предлогом слушания лекций в Сорбонне в священный город ее кумиров — Наполеона и Сары Бернар; в 1912 году провела здесь несколько недель во время свадебного путешествия.

Теперешний Париж был неузнаваем — масса автомобилей, суета. Другим было и ощущение себя в Париже.
Первые же дни приносят разочарование. Едва приехав, Марина пишет в одном из писем: «Этого Парижа я не знаю, знаю — тот Париж, когда мне было шестнадцать лет, свободный, уединенный, весь в книжных лотках вдоль Сены. То есть: свою сияющую свободу — тогда. Я пять мес<яцев> прожила в Париже, совсем одна, ни с кем не познакомившись. Знала я его тогда? (Исходив вдоль и поперек!) Нет — душу свою знала, как теперь. Городов мне знать не дано».

Это особенность ее природы: «невключенность» во внешний — вещный и событийный — мир, в ближайшее настоящее. Она всегда лучше видит его, уже обернувшись назад, расставаясь, прощаясь, в то мгновение, когда оно становится прошлым. Но и тогда — больше по следу, оставленному в сердце, чем во внешних очертаниях.
Замечательно, однако, то, что эта особенность превосходно уживалась в ней с качествами, далекими от лирической «неотмирности».
Ее крайняя неприспособленность к быту не отменяла необходимости везти на себе все годы чужбины воз домашних забот. Ее неумение «устраивать дела» обтачивалось на необходимости заниматься этим устройством ежедневно. Ибо рядом не было человека, который делал бы это за нее.
В бытовых коллизиях она остается всегда неумелой и беспомощной. Но не то в ее отношениях с редакциями и редакторами, с разного рода комитетами и меценатами! Тут мы скорее поразимся ее расчетливости, трезвости и предусмотрительности. Увидим ее жесткой, практичной, не чересчур церемонной и даже способной к изящной лести; пример тому дают, в частности, ее письма к Рудневу, одному из редакторов «Современных записок».
А как тщательно она подготовилась к приезду в Париж! Обдуманно отобраны для печати стихи и проза — и в первые же недели парижского пребывания в русских газетах густо пойдут ее публикации.
Как результат — редакции русских эмигрантских изданий включают Цветаеву в список виднейших литераторов, к которым обращены просьбы ответить на предновогоднюю анкету.
Приезд ее явно замечен.

В один из декабрьских вечеров на улицу Руве явился молодой журналист Андрей Седых. Вскоре в рижской газете «Сегодня» будет опубликован его отчет об этой встрече. «Марина Цветаева совсем молода, — писал Седых, — шапка светлых вьющихся волос, гладкое зеленое платье. И глаза смотрят куда-то вдаль, вдумчивым, глубоким взглядом». Далее Седых передавал слова Цветаевой: «Я по стихам и всей душой своей — глубоко русская. Поэтому мне не страшно быть вне России. Я Россию в себе ношу, в крови своей. И если надо, и 10 лет здесь проживу и все же русской останусь…»
В первые же недели Алексей Ремизов успел хорошо досадить Марине Ивановне. Со своей страстью к мистификации он сумел опубликовать где-то сообщение о том, что приехавшая из Праги поэтесса предполагает издавать новый журнальчик под названием «Щипцы». Шутку приняли за правду, так что рассерженной Цветаевой пришлось даже давать опровержение в газете «Последние новости». Но, как ни странно, ссоры с Ремизовым не последовало.
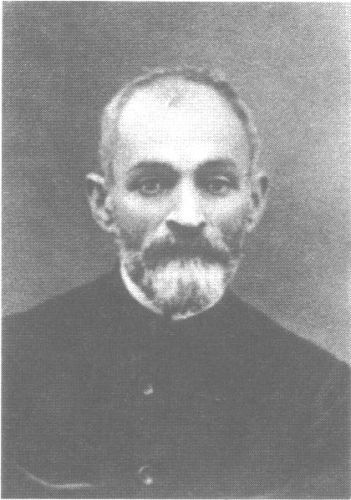
Дом Ремизовых станет для Цветаевой в ближайшие годы одним из немногих «своих» домов. Крепкой дружбы не получилось, встречи были нечастыми, но в этом доме Марина Ивановна приобрела новых дорогих для нее друзей.
Среди них был философ Лев Исаакович Шестов. Они были знакомы в Москве, но как бы издали. Его Цветаева назвала позже «самым важным своим человеческим приобретением в Париже»; Шестов тоже с удовольствием пошел на сближение.
Эфрон приехал в канун рождественских праздников. Теперь их было четверо в одной комнате.

И в этой скученности, при беспокойном нраве малыша, Цветаева умудряется работать. В начале декабря она уже отсылает в редакцию «Воли России» последнюю главу поэмы «Крысолов», написанную в Париже. И вскоре начнет новую поэму!
Несколько часов в день — с пером в руке, за письменным (или кухонным, разницы нет!) столом, переставая слышать и видеть… Когда это получается, все неудобства отходят для нее на задний план.
У трех дочерей Ольги Елисеевны были к этому времени уже «прочные» женихи; как и их невесты, они восхищались цветаевской поэзией и ею самой; в той или иной степени все были также причастны к литературным занятиям. И в доме царила атмосфера молодой веселости и дружелюбия. Марина Ивановна легко и охотно в нее включалась. Неизменно бодрая, подтянутая, всегда готовая к шутке и смеху — такой запомнили ее младшие Черновы в ту первую парижскую зиму.
А все же в ее тетради появляются жалобные строфы:
И в новогодней анкете «Последних новостей» рядом с пространными пророчествами Мережковского появляются лаконичные цветаевские пожелания: «Себе — отдельной комнаты и письменного стола, России — того, что она хочет».
Между тем дела с устройством поэтического вечера продвигались плохо. По тогдашним правилам Цветаева должна была все подготовить и обеспечить сама: помещение, рекламу, печатание и распространение билетов.
Труднее всего оказалось найти зал. Поначалу была надежда на помощь Цетлиных — сорвалось; не увенчалась успехом и попытка договориться с художником Малявиным, у которого была огромная мастерская. В конце концов выручил Клуб молодых русских поэтов, располагавший помещением на улице Данфер-Рошро.
В январе Цветаева пишет в Прагу: «В Париже мне не жить — слишком много зависти. Мой несчастный вечер, еще не бывший, с каждым днем создает мне новых врагов <…>. Если бы Вы только знали, как все это унизительно.
Купите, Христа ради! — Пойдите, Христа ради!
Прибедняться и ласкаться я не умею, — напротив, сейчас во мне пышнее, чем когда-либо, цветет ирония. И — “благодетели” закрывают уже готовую было раскрыться руку (точней — бумажник!)».
Впечатления Эфрона — не лучше. «“Русский Париж”, за маленьким исключением, мне очень не по душе, — сообщает он Валентину Булгакову. — Был на встрече Нового года, устроенной политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи “недорезанных буржуев”, жирных, пресыщенных и вяло-веселых (все больше евреи), они не ели, а жрали икру и купались в шампанском. На эту же встречу попала группа русских рабочих, в засаленных пиджаках, с мозолистыми руками и со смущенными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, но сгорал со стыда…»