Как она это успела сделать, Доня потом и не помнила, но с бесовской силой подбросила Пашку, смяла в охапку, поставила на стул. «Пусти! — слышала она испуганный его голос. — Тебе говорят, пусти!» А она его укрепила на стуле, он вырос над ней, перепуганный и растерявшийся, и с размаху ударила его по шее. Стул полетел с грохотом в одну сторону, Пашка Зобов в другую и, ничком растянувшись на полу, так и остался лежать с задранной штаниной, из-под которой белела сухая, безволосая кожа ноги.
Страх охватил ее при виде валяющегося на полу мужа, она уж было кинулась к нему откачивать, приводить в чувство. Но Паша сам поднял голову, потрогал шею, поморщился, сел, потрогал коленку, которую, видно, ушиб при падении, покрутил головой и неловко встал на ноги.
— Чтоб твоей… — сказал он, опасливо глядя на жену. — Чтоб не было… Корова проклятая!
Через два дня Доня Саладилова уехала, забрав с собой дочку и большой кожемитовый чемодан с металлическими, проржавевшими от времени уголками. Собиралась она так, будто ее наконец-то отпустили на волю и она лишь одного боялась — чтобы не задержали ее, не заставили жить опять в опостылевшем доме, в котором она и так уже слишком много дней жизни потратила впустую.
У Паши Зобова появилась с тех пор привычка поводить головой в сторону. Делал он это с напряжением, как если бы ему давил на шею тугой воротничок.
— Вот, например, человек, — говорил он случайным слушателям, выводя голову из нырка, — всю жизнь проработал на свечной фабрике. Свечи делал. Весь его труд сгорел, и ничего от него не осталось — одно воспоминание. Что же, выходит — зря трудился? А вот и нет, не зря! Есть такое дело, от которого ничего не остается, один огонек в памяти людей. Да и то! Разве упомнишь, какая свечка в твоей жизни как горела? Огарок выбросил и забыл. Или лыжи натер… Вот и все. А ведь кто-то делал эту свечку. Не сеял, не пахал, а жизнь свою отдал людям. Урожая не собрал. Никого не накормил, не напоил. А все-таки огонек людям оставил на память, душистый или нет — другой вопрос. Люди смотрели на огонек и о чем-нибудь думали. И ладно! Значит, нужное дело, хотя и сгорело дотла… Я к чему это говорю? Тут, смотрю, Губастовы и еще какие-то двое три бутылки коньяка выпили. Я при этом присутствовал незаметно, но участия, конечно, не принимал. Есть у меня такой маленький недостаточек. Помимо всех других. Спрашивается, откуда у них деньги на коньяк? Я, например, зарабатываю, а коньяк даже, по-моему, не пробовал никогда. Потому что дорогой для меня, не по карману. А они три бутылки! Ведь тоже, казалось бы! Кто-то делал, заливал в бутылку, этикетку наклеивал, затыкал пробкой. Это тоже работа, за которую деньги платят. А что осталось? Больное сердце, нервы, печень — все больное. Бытовое какое-нибудь преступление остается, разбитая семья… Что-то я хотел сказать? Тут мне в Москве одна продавщица отпускает килограмм перловки. Вешает, а я ей говорю: это я для рыбной ловли. Что ж на нее, говорит, ловится? Щука или карась? Плотва, говорю. А что ж это за рыба такая? А такая вот рыба есть, серебряная. Ты этой серебряной скажи, что девка голубоглазая крупу отпускала, пусть лучше ловится. Спасибо, говорю. Поехал на рыбалку с товарищами… У меня товарищей много! — говорит Зобов, поводя головой. — И столько рыбы наловил, сам не мог поверить — килограммов шесть отборной плотвы. Вот тебе и девка голубоглазая! Слово знает! Никогда столько не ловил. Девке этой, правда, лет пятьдесят. Голубоглазой! А то бы я в долгу не остался. Это я не к тому, что развратничать или это… Но если надо будет… Меня что возмущает в жизни? Сидят, например, эти Губастовы, забутыливают, а у меня нервный тик пошел от возмущения… Надо же такое! Не работают нигде. Это про машинную смазку говорят: повышенной ползучести. Братцы эти Губастовы — точно!
Пашу Зобова никто не слушает, посматривают на него с усмешкой, вспоминая о прозвище и о том, что ушла от него жена. Кто-нибудь спросит с подковыркой:
— Ты бы лучше рассказал, как тебя жена на табуретку поставила.
Голова Паши идет плавным нырком вниз и в сторону, он ухмыляется, возвращая ее на место, говорит, отмахиваясь:
— Вранье. Все это проклятый быт… Дело десятое. Скатываться в быт не хочу! Есть, конечно, люди. Я их, знаешь, как называю: верноподданные идиоты собственной семьи. У меня на первом месте работа, труд, общественное дело какое-нибудь. А на быт я внимания особенного не обращаю никогда. Вот, например, ответь мне: другие народы едят соленые грибы? Я тебе отвечу на это: нет. Они только шампиньоны едят. А мы любим гриб лесной. Такого народа нигде нет на свете. Шампиньон — это все из области быта. А для меня свобода главное. Я вот что тебе скажу напоследок, а ты запомни, — говорит Паша и поднимает указательный палец. — Бойся судьбы дающей — смирись с отбирающей…
Подтягивает локоточками брюки, вскидывается телом, шмыгает носом и, довольный своей речью, уходит, поскребывая по асфальту высокими каблуками. Но останавливается и, вызывая улыбки людей, громко говорит:
— А про Губастовых скажу так: только уголовники ведут себя одинаково — на воле или в тюрьме. Им это все равно! Это у них особенность такая. Но веревку я им все-таки не продам! На которой они меня вешать будут. Не такой я дурак! Я знаю, они охотятся за мной. Но я им веревку не продам! Так и скажите, если увидите. Бытовых этих пасквилянтов! Они у меня на крючке! Есть у меня один недостаточек. Они знают.
Осенью, когда на дорожках появился желтый лист, Паша Зобов пригнал отремонтированную, окрашенную заново, блистающую лаком машину. А на следующий день, к вечеру, плакал над ней, кусая губы и безнадежно поглаживая рукой грубые царапины, проведенные гвоздем или ножом по капоту и дверцам. Царапины были угловатые, островерхие, перекрещивающиеся своими линиями, и составляли они трехбуквенные слова, никогда вслух не употребляемые Пашей Зобовым, презирающим всякую матерщину.
— Что за народ! — шептал он, слизывая слезы с губ. — Что за народ! К каждому по одному милиционеру надо… К каждому! Ох, народ!
Утром он подумал, что все это приснилось, и даже улыбнулся спросонья, вспоминая страшные царапины, которые померещились ему. Но тут же спрыгнул на холодный пол и, взмокнув от горячего липкого пота, застонал в бессилии.
— Доня! — подвывал он, схватившись за голову и раскачиваясь всем телом. — Доня! Донечка…
Жертва истории
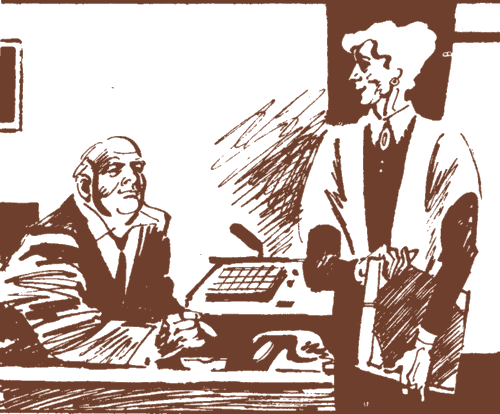
Майское полнолуние очень беспокоило Клавдию Александровну Калачеву. С приближением ночи она чувствовала себя так, будто надвигалась грозовая туча. Зашторивала наглухо окна и, слыша, как в овраге гулко щелкает рассыпчатыми трелями соловей, затаивалась над библиотечной книгой, осторожно перелистывая ветхие страницы. Но понять что-либо из прочитанного не могла. Душа ее была так далека от книжных страниц, что она не только понять, но и прочесть толком не в силах была ничего, пребывая в тревоге и странном волнении, зная, что ночью ей опять не удастся заснуть.
— Полнолуние, — говорила она с вялой улыбкой на другой день, если у нее спрашивали, не больна ли она. — А когда полнолуние, человек не спит две ночи до него и две ночи после. Я очень мучаюсь.
Говорила так, будто она только и была человеком, а все остальные жили на свете с более ясным и простым предназначением, никогда не испытывая радость в такой мере и никогда не пугаясь так, как радовалась или пугалась она одна.
Полнолуние врывалось в ее жизнь стихийным бедствием, перед силой которого все ее собственные силы превращались в ничто, а стонущий в испуге мозг молил небо о пощаде. Только вспышки ночной молнии и грохот грома приводили ее в подобное смятение и страх.
Если же она, застигнутая тьмою, видела за лесом, за силуэтами черных елок светящийся в ночи, яростно сияющий круг, она отворачивалась в ужасе, ища спасения во тьме. Но огромная луна, поднимающаяся над лесом, чудовищно грубым и резким блеском словно бы пронизывала ее насквозь, горяча кровь, которая с такой силой начинала пульсировать, что ей трудно становилось дышать и она боялась за свои иссякающие силы. Она убыстряла шаткий шаг, но чувствовала, что и луна тоже, приплясывая, перекатывалась за колючими силуэтами высоких елок, которые на своих лапах словно бы играючи подбрасывали, перебрасывали, перекидывали четко очерченный в темно-синем небе шар, избавиться от которого можно было только в освещенном доме, спрятавшись за прочными его стенами, за плотными синими гардинами.