А ведь так хотелось верить, что, рассказав мне эту историю, он избавился от нее, отпустил и больше не мстит ни ей, ни себе за то, что его не полюбили. Я и верила. Пока могла.
Но ничего не изменилось — для него. Меняются лишь женские лица, ноги, возле которых он сидит, ладони, которые он целует, но точно так же сигаретный дым покачивается в луче прожектора, на магнитофоне — все та же бобина с неизменными «Beatles», все тот же кислый вкус болгарского красного. Только я уже не там, с ним, а здесь — в стороне. Пора привыкнуть, только мне все равно больно, больно, больно.
— Но зачем тогда, — не унимается Мартин, — зачем старый Новый год?
Песня кончилась, а дальше — рок-н-ролл, мне не хочется рок-н-ролла, его танцуют Ритка с Игорем и Слава с Мартиной, а мы спускаемся в зал и садимся на крайние кресла: я — в первом ряду, Мартин — во втором. Шторы на высоких окнах не опущены, и виден пустой институтский двор, освещенный желтыми фонарями, грязноватые сугробы на газонах, покрытые льдом лавочки.
— Понимаешь, — говорю я, — на Новый год все ждут чуда… — и пугаюсь, что Мартин не знает этого слова, а я понятия не имею, как будет «чудо» по-немецки, разве что по-французски «миракль» помню, но он согласно кивает. — А оно не случается. Никогда. И это очень обидно. И хочется дать чуду второй шанс. Все-таки на Новый год у Деда Мороза — весь мир, а в этот день — только наша страна. А вдруг?
Мартин снова берет меня за руку и, смешно выворачивая шею, пытается снизу вверх заглянуть мне в лицо:
— Дед Мороз? Да, я помню, это ваш злобный дух зимы, который потом стал святой Николай, да? И ты ему веришь? А какого бы чуда хотела ты?
Чуда? Ох нет, хватит, в октябре у меня уже было чудо, когда Слава внезапно после репетиции обнял меня за плечи в полутемном коридоре и я мгновенно забыла все те злые слова, которые три месяца носила за сомкнутыми губами. Только вот чуда этого хватило на два раза и четыре дня, а потом было «прости, я так занят», «извини, у нас новый спектакль на запуске», «сегодня никак не могу», — а после я и спрашивать перестала. И какое там чудо — мне бы забыть, все забыть, я и пытаюсь, я вот уже полгода зову Славу только на «вы», я бы и Святославом Андреевичем его звала, только у нас это не принято, он и без того морщится, но мне же нельзя, ни в коем случае нельзя забывать: с человеком, которого я называла на «ты», у нас были совершенно другие отношения! А что делать? Уйти из театра? Но здесь моя жизнь, здесь мои друзья, я и не представляю себе, чем еще заняться, — пустые дни, пустые вечера, нет, я не выдержу, это словно прыгнуть из болота в пропасть…
Я не могу перестать его любить. Не могу превратиться в ту, кого он все еще любит. И какое чудо могло бы помочь мне?
Хочется ответить, что я не верю в чудеса, но ведь и это неправда — верю, знаю, что они случаются. Даже со мной. Только это ничего не меняет.
Моей ладони, которую держит Мартин, тепло и сухо, как в рукавице. Мне не было так спокойно уже давно — или никогда? Я привыкла идти по этому миру, словно босиком по раскаленному асфальту, но ведь так не должно быть, так нельзя — и отчего я заметила это только сейчас? Чудо? Что ж, пусть будет чудо!
— Мне бы хотелось перестать быть собой. Не знаю, кем я должна была родиться: может, снежной тучей или бродячей кошкой, карагачом, молью, порывом ветра… Ну есть же хоть какая-то оболочка, в которой мне не было бы больно! Наверное, я слишком поспешила, когда рождалась, мне показалось, что быть человеком — это круто, и это действительно круто, но не для меня. Я все время ошибаюсь: не то говорю, не то делаю, не то загадываю, не то и не тех люблю. Конечно, всему этому можно научиться, но я бестолковый студент, я измучила всех и измучилась сама. Можно мне просто сдать зачетку и уйти — куда-нибудь? Хоть в дворники. Хоть в кошки.
— Ты этого правда хочешь? — спрашивает Мартин, его глаза блестят в полутемном зале, и я невольно вспоминаю не то сказку, не то легенду о демонах, которые бродят по земле в предпраздничные ночи и охотятся за людскими сердцами. А-а, все равно.
— Да, хочу, — твердо отвечаю я.
— Тогда смотри, — говорит он, встает, подходит к окну, дышит на стекло и рисует на нем прямоугольник, словно маленькую, распахнутую настежь дверь.
Я подхожу к Мартину с кривой вынужденной улыбкой — что это за игра? — и вижу, что там, за стеклом, пылает огромный костер.
И мне не страшно.
Мартина пьет чай, смеется, показывая слишком крупные зубы, треплет сидящего рядом Славу по волосам. Мартин подходит к ней, резко бросает несколько слов на странном, непохожем на немецкий, гортанном языке, и она поднимается, улыбается прощально и говорит:
— Все, нам пора. Еще увидимся… наверное.
Ее голос сливается с боем часов из какого-то далекого забытого радиоприемника, полночь, пьяненько скалится вернувшийся сопровождающий, кто-то тушит рампу и выключает магнитофон.
Слава подходит к окну, прижимается лбом к холодному стеклу — нет, коньяк все же пить не следовало. В желтом свете фонарей мягко падает снег из сизой тучи, укутавшей звезды, тянут друг к другу корявые пальцы ветвей карагачи, и медленно, с достоинством переходит пустой двор тощая кошка.
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
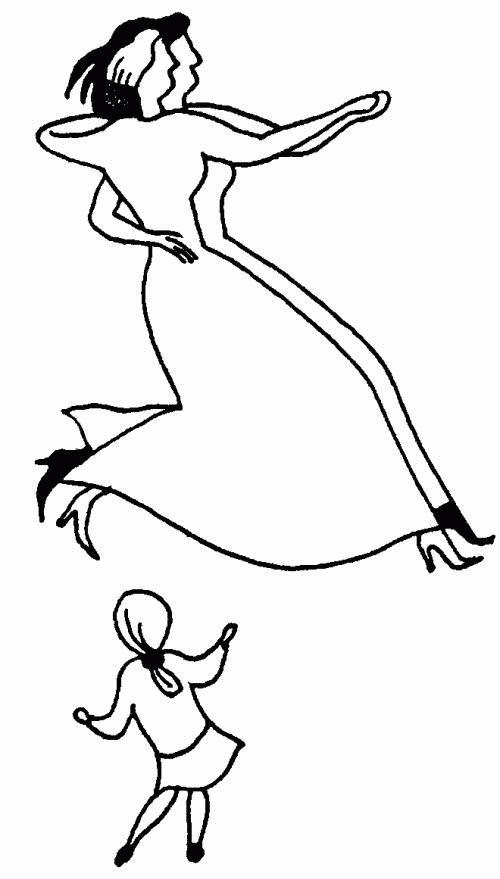
Патрицианке и диаконисе Татиане повезло, ну не сказать, чтобы с судьбой в теперь уже Древнем Риме при императоре Александре Севере: статус мученицы редко когда может быть поводом для зависти (хотя кое-что из зафиксированных деяний — например, «по ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов» — ныне может квалифицироваться разве что как вандализм). Но вот с празднуемым днем в России — точно. Потому что разнообразных святых немало, да кто их всех помнит, кроме преподавателей семинарии и записных любителей кроссвордов?
Но именно в день 12 (а по новому стилю — 25) января 1755 года — свершилось. Проект Михаила Васильевича Ломоносова, текст «Доношения в сенат» — его друга и фаворита императрицы графа Ивана Ивановича Шувалова, высочайший же Указ об учреждении московского университета подписан, ясное дело, лично императрицей Елизаветой Петровной. Что, неочевидно, при чем тут Татьяна? Все просто. Татьяной Петровной звали матушку Шувалова. Сын с похвальным почтением и достойной изумления прямотой ей так и сказал: «Дарю тебе университет!» Ломоносов с императрицей не возражали. Студенты — тем паче: кто ж от собственного праздника откажется? Быстро он стал относиться не только к московским студентам, но и вообще ко всем.
Так и повелось, праздник был прозван «пьяная Татьяна» за особенности празднования — впрочем, не такие уж и особенности. Хотя, возможно, студенты в те времена зажигали покруче нынешних десантников на день ВДВ.
В советские времена реакционную Татьяну прикрыли — «во избежание». Хотя неофициально продолжали помнить и праздновать — но втихую и уже безо всякой связи с собственно церковными мотивами. А в 1995 году возобновили и официально. Открыли храм Татьяны, к 25 января приурочили вручение Шуваловских и Ломоносовских премий. Хороший праздник получается, веселый.
Танда Луговская. Уженет
— …и присмотри за холодцом!
Очень хорошие слова. Настолько хорошие, что все остальные мамины слова можно пропустить. Потому что зима и надо смотреть на холодец — похожий на фильм из природоведения, про то, как создавалась Земля. Давным-давно, когда еще не было не только Янки, но и вообще никого из людей, и даже никого похожего тоже. Татьяна Маратовна говорила, что вообще никого живого не было, но если Земля выглядела вот так, то она была живая, тут Янку не переубедить. Ну и холодец тоже. Когда его выключают, надо быстро обглодать еще горячие косточки и хрящики, чтобы он не обиделся: столько старался, варился, и что? Как будто к уроку готовилась-готовилась, а не спросили. Потом холодец застынет и будет уже неживой, и тогда можно есть, все нормально.