Как-то, находясь в состоянии сильного возбуждения от нарисованной самим собой картины, Егорка, торопясь и сбиваясь, рассказал матери о том, что он видел. А торопился Егорка, потому что принеся хлеб, он тут же собирался в школу — не опоздать бы.
Настороженно выслушала рассказ сына видевшая немало горя женщина, не сводя с него тревожного взгляда. Ей трудно поверить в реальность виденного им. И, тем не менее, она ничего не говорит ему, не разубеждает, как всегда напутствуя в школу добрым словом.
Вечером, при приглушённом свете керосиновой лампы, когда Егорка уже засыпал, мать вполголоса пересказывала отцу то, что она услышала от Егорки. А Егорка всё больше погружался в объятия сладкого сна и думал о том, что завтра ему снова идти за хлебом и что завтра снова всё повторится.
Лёвка
Лёвка Казаков страдал от постоянного чувства голода. Целыми днями он был предоставлен самому себе, и все его мысли были направлены на то, чтобы где-нибудь что-нибудь поесть.
Мать Лёвки с раннего утра и до позднего вечера без выходных работала на железнодорожной станции. Дома она наскоро готовила скудный ужин и, уставшая, валилась на жёсткую железную кровать в холодную постель. А Лёвка ещё долго шатался от одного двора к другому в поисках друзей и приключений.
Я был ближайшим его соседом, и Лёвка чаще всего приходил ко мне. Он делился со мной своими многочисленными планами, предложениями, надеясь на поддержку.
Однажды, когда мы учились во втором классе, Лёвка пришёл с новой идеей, основательно овладевшей им.
— Давай уйдём в детдом, а?
— В детдом? — удивился я. — Зачем?
Лёвка запальчиво стал объяснять, что детдомовцев хорошо кормят, обувают, одевают, водят в школу.
— Ты матери сказал? — попытался я остудить его пыл. — Ты сказал, что в детдом уйти хочешь? Разве она тебя отпустит?
— Отпустит! — заверил меня Лёвка. — Отпустит! Ей без меня лучше будет!
— Тебя не возьмут в детдом. Не возьмут.
— Почему не возьмут? Возьмут. Я скажу, что у меня никого нет. И ты скажешь, что у меня и у тебя никого нет. Они всё равно проверять не будут. Пойдём, а? — Лёвка свыкся с мыслью ухода в детский дом, вот только одному туда идти не хотелось, вдвоём бы с кем-нибудь. А так, одному, боязно.
Лёвкин отец не вернулся с войны. Похоронки не было, и в списках без вести пропавших он не значился. Матери было не до Лёвки. Проклятая, как она говорила, работа отбирала силы и здоровье. Заработка едва хватало, чтобы не умереть с голоду.
Страшный послевоенный голод свирепствовал в поволжском городке. Не было такого двора, не было такой семьи, которые не ощутили бы на себе его жестокие последствия.
Всё чаще и чаще по нашей улице старая тощая коняга тянула летом телегу, зимой — сани с гробом. Покойника провожали полтора-два десятка родственников. Ни слёз, ни рыданий. Всё уже выплакано, всё сказано. Только безысходность да отчаяние, да ожидание следующей жертвы голода. А он, ненасытный, всё пожирал и пожирал как взрослых, так и детей.
Следующей была Зоя. Она жила напротив Славки Грачёва, и они постоянно играли вместе. Мы ещё беззлобно дразнили их «жених и невеста». Девочка умерла неожиданно для нас, её смерть потрясла всех мальчишек.
Славкина «невеста» в белом платьице лежала в небольшом гробу, стоявшем на табуретках в переднем углу комнаты. Над её осиротевшей кроватью висела большая довоенная карта Советского Союза.
Вскоре после смерти Зои Грачёвы навсегда уехали в Астрахань.
Лёвка, как и я, любил паровозы. Днями мы надолго уходили на вокзал встречать и провожать поезда. Ещё нас забавляло, как на сортировочной горке вагоны катились сами по себе, как они, сталкиваясь друг с другом, продолжали катиться, или как, вздрогнув от сильного упругого удара, замирали на месте. С интересом мы наблюдали, как под громадное станционное сооружение — эстакаду — осторожно вкатывался паровоз, а из бункера эстакады в тендер локомотива с грохотом сыпался уголь.
Днём на вокзале всегда было многолюдно, к вечеру поток пассажиров уменьшался, к ночи людей было совсем мало. Одни ночевали на длинных деревянных лавках, другие — на полу.
— Давай переночуем на вокзале, — сказал я однажды Лёвке.
— Давай! — тут же согласился он, словно только и ждал моего предложения.
— Нас не заберут? — с опаской спросил я.
— Не заберут! — твердо заверил Лёвка.
На склоне следующего дня, ничего не сказав своим матерям, мы направились на вокзал с намерением остаться там ночевать. По пути зашли в привокзальный парк и слонялись до той поры, пока глаза наши стали слипаться от усталости и желания спать.
В немноголюдном зале вокзала без труда отыскали свободные места и улеглись на голых лавках голова к голове.
Впрочем, ночёвка на вокзале особой радости не принесла. Когда едва забрезжило, мы, поёживаясь от ранней свежести, голодные и чем-то недовольные, побрели домой. Говорить ни о чём не хотелось. Держась ближе к домам, старались не попадаться на глаза первым ранним прохожим, спешащим на станцию.
Дома Лёвку ждало разочарование. Матери уже не было, поесть ему она ничего не оставила. Это разозлило Лёвку, он стал лихорадочно искать деньги. Он метался по комнате, как ужаленный.
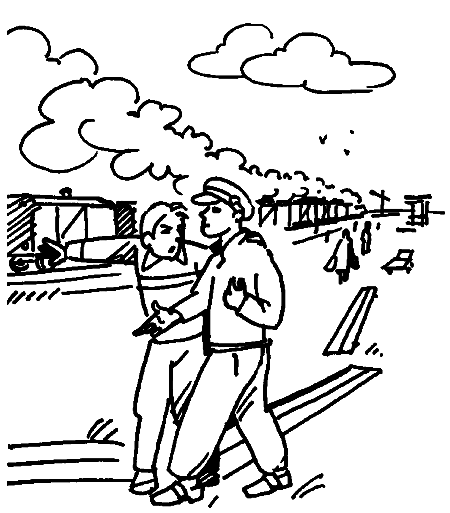
Найдя деньги, Лёвка взял не всё. Взял столько, сколько, посчитал, ему было нужно. Сунув деньги в карман поношенных штанов, Лёвка кинулся на рынок.
Поздним вечером с их двора неслись крик и ругань Лёвкиной матери.
В эту ночь Лёвка дома не ночевал. Не ночевал и в последующие ночи. Днём он появлялся, но входная дверь его дома была заперта на замок, и Лёвка приходил ко мне. Я спрашивал, где же он ночует?
— Где придётся, — отвечал Лёвка, — но чаще всего на вокзале.
Я кормил его сваренными мной щами, состоящими из воды и крупно нарезанных листьев сахарной свёклы, с кусочком чёрного хлеба. Насытившись, Лёвка уходил до следующего дня.
Как-то Лёвке удалось открыть замок наружной двери своего дома, но то, что дверь, ведущая из сеней в комнаты, будет заперта, для Лёвки оказалось полнейшей неожиданностью. Лёвка оторопел и чуть было не расплакался от досады. Но его растерянность быстро прошла, он начал беспорядочно рыться в куче старья, оставленного матерью на всякий случай. Лёвка искал отмычку.
Моё внимание привлекло ведро, подвешенное к потолку сеней. Насколько я помнил, его прежде там никогда не было.
— Лёвка, зачем это там ведро висит?
— Где? — вздрогнул Лёвка и замер. — Где?
— Да вон, на потолке!
Лёвка стал быстро, торопясь, громоздить шаткую подставку, вскочил на неё, и, балансируя, вытянул длинные худые руки, цепляясь за край ведра. Подставка начала оседать и рассыпаться, Лёвка поспешил с добычей в руках соскочить на пол. В ведре что-то звякнуло. Ключ! Это был желанный ключ!
В этот раз Лёвка взял все деньги и ушёл надолго. Он даже ко мне не приходил.
Наступившие осенние холода, ненастье, примирили Лёвку с матерью. Но бродяжничество уже крепко засело в нём.
В нашей семье стали всё чаще и всё серьёзнее поговаривать об отъезде. Говорили, что, если до весны не уедем, то наступившая весна для нас может оказаться последней.
Лёвка откровенно завидовал мне. Ему очень хотелось уехать из этого города, всё равно куда, но уехать. Он искренне просил меня обязательно ему написать.
Я выполнил просьбу Лёвки, написал большое письмо. Он ответил. Ответил он и на второе, и на третье письмо, последующие мои письма остались без ответа.
Судьба Лёвки мне неизвестна. Может быть, он ушёл в детдом, может быть, с наступлением тепла ушёл бродяжничать и не вернулся, а может быть, та весна оказалась для него последней.
Поворотный круг
Военные и послевоенные сороковые годы довелось мне жить в тихом провинциальном городке Поволжья. Городок расположен на левом берегу реки Хопёр, на правом берегу — лес, лес без конца и края, как мне тогда казалось — дремучий. И не знать, и не ведать, где, в каком краю заканчивается он, да и заканчивается ли?