Но и это по своей значимости далеко не последнее. Из «фиолетовых перехватов» президент знал, что Гитлер пообещал объявить войну США, как только разразится американо-японский конфликт. Следуя известному только ему плану, Рузвельт до конца стремился представить свою страну как жертву агрессии. Просто маниакальное стремление, ведь нужды в оправданиях уже не было. Кровь американских солдат и матросов, пролитая в Пёрл-Харборе, освятила любые действия президента, стала индульгенцией в глазах общества, общества, спрессованного японскими бомбами и торпедами в единый организм. Огромный североамериканский колосс проснулся после двадцатилетней летаргии…
По ту сторону Атлантики, в Берлине, о случившемся узнали, слушая радио. И не поверили — решили, что это очередной пропагандистский трюк англичан. Но ночью министр иностранных дел И. фон Риббентроп был разбужен японским послом Осимой — оказалось, что американо-японская война не английская выдумка. Требовалось написать речь. 11 декабря правительства Третьего рейха и фашистской Италии объявили войну Соединенным Штатам.
Рузвельт получил необходимый ему повод для вступления в войну с Германией. Из воюющих держав только Советский Союз не объявил войну Японии. В послании американскому президенту И. Сталин объяснял это так: было бы «неразумным и опасным для СССР объявить теперь состояние войны с Японией и вести войну на два фронта — объявление состояния войны с Японией со стороны СССР ослабило бы силу сопротивления СССР гитлеровским войскам и пошло бы на пользу гитлеровской Германии… привело бы к усилению держав оси»[843]. Рузвельт не возражал, он принял позицию своего советского коллеги, да и победа над Гитлером выглядела куда важнее разгрома японских милитаристов. Круг замкнулся. Противоборствующие коалиции сформировались окончательно. Гигантская мясорубка Второй мировой войны вступила в свою решающую фазу.
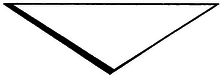
ЭПИЛОГ
Практически полное уничтожение американского Тихоокеанского флота дало возможность Японии беспрепятственно развивать агрессию. Уже 7—8 декабря японцы атаковали Филиппины, Гонконг, Гуам, Мидуэй, Уэйк, Малайю, захватили международный сеттльмент в Шанхае. К 10 декабря союзники располагали в Тихоокеанском регионе лишь одним устаревшим английским линкором «Малайя» и тремя американскими авианосцами: «Энтерпрайз», «Легсингтон» и «Саратога». Как и предсказывал Ямамото, полгода Империя пожинала плоды победы. Над новыми и новыми владениями взвивался флаг с восходящим солнцем. Казалось, что флот непобедим, в Яванском море и Индийском океане враги империи находили свой последний приют на дне. 6 мая пал последний оплот американцев на Филиппинах — о. Коррехидор. Через два дня в Коралловом море список жертв войны пополнила команда крупнейшего авианосца в мире — «Легсингтона», «Йорктаун» еле доковылял до Пёрл-Харбора.
Гавайская операция была блестяще спланирована и не менее блистательно проведена. Недаром ни один учебник по военно-морскому искусству не обходит Пёрл-Харбор стороной. Но то был лишь тактический, временный успех. В стратегическом плане удар по Оаху оказался катастрофой.
Грандиозные потери, понесенные США, не оказались фатальными. Более того, они не стали невосполнимыми. Оказалось, что повреждения значительной части кораблей могут быть в скором времени устранены. Уже 20 декабря линкор «Пенсильвания» ушел на Западное побережье собственным ходом (для продолжения ремонта). Линкоры «Мериленд» и «Теннесси» стояли полностью готовыми к бою[844]. Буквально сразу после окончания атаки под руководством лейтенанта-коммандора Л. Кертиса и коммандора Д. Стилса были предприняты меры для проведения работ по подъему затонувших линкоров с «максимальной скоростью»[845]. Большинство жертв Пёрл-Харбора прошли модернизацию и участвовали в операциях, поддерживая десантирующиеся войска.
Воспитанные на традициях русско-японской и Первой мировой войн японские адмиралы плохо разбирались в стратегии. При планировании гавайской операции возможность уничтожения инфраструктуры главной базы американского флота даже не рассматривалась. Хотя точное расположение и степень защищенности всех объектов инфраструктуры были прекрасно известны командованию Объединенного флота. Склады боеприпасов, судоремонтные мастерские и нефтехранилища остались нетронутыми. Буквально сразу после нападения адмирал Блох справедливо отметил, что выбери японцы в качестве основной цели не отдельные корабли, а нефтехранилища, «мы бы понесли, несомненно, больший урон, чем в действительности»[846].
С ним солидарен адмирал Ч. Нимитц: «Вся нефть для нашего флота была в нефтехранилищах в момент атаки на Пёрл-Харбор. Там находилось около 4,5 млн. баррелей нефти, и все это можно было уничтожить авиационными пушками 50-го калибра… Если бы японцы уничтожили нефть, это бы продлило войну еще на 2 года»[847]. Нефть была таким же слабым местом Тихоокеанского флота, как и Японской империи. Черные клубы дыма от пожаров на хранилищах Оаху возвестили бы о полной нейтрализации американского флота. Нагумо просто приковал бы американские корабли и самолеты к этому небольшому вулканическому острову. Через неделю или месяц Объединенный флот мог повторить операцию, не встретив противодействия: в баках самолетов и цистернах кораблей просто бы не было горючего. Оаху бы стал бы великолепным местом для высадки десанта. При этом можно быть уверенными, что Киммель и Шорт сожгли бы остатки горючего уже к 8 декабря в бесплодных попытках обнаружить противника. Их предусмотрительность и расчетливость можно сбросить со счетов, они решали проблемы по мере их возникновения, не стремясь предугадать или избежать негативных последствий. Захватить Оаху или по меньшей мере отбросить остатки американского флота к Западному побережью, откуда он не мог бы оперировать в условиях 1942 г., — вот какую возможность не учел Ямамото. Вот от какого шанса отказался Нагумо, не послушав Генда и Футида.
Остались невредимыми и авианосцы. Теперь, после Пёрл-Харбора, они стали основной ударной силой на море. Боевые порядки флотов изменились, не авианосные корабли придавались линейным для ведения разведки и комбинированного боя, а наоборот. Линкор стал не более чем сторожевым псом авианосца, призванный отгонять стаи других надводных кораблей. Во всем мире даже люди далеко не военные поняли, что «ни один линкор, вне зависимости от его размера и стоимости, не может устоять… против современных бомбардировщиков, в особенности тех, которые вооружены торпедами»[848]. Через три дня японцы вновь докажут эту истину, когда бомбардировщики с красными кругами на крыльях отправят на дно два английских линкора: новенький «Принс оф Уэлс» и дряхлый «Рипалс».
Адмиралы американского флота урок усвоили, но скорее случайно, чем в результате анализа разворачивавшихся перед их глазами событий. Нимитц послал к Мидуэю три авианосца от безысходности, от катастрофической нехватки сил. Подтверждение этого мы вряд ли найдем в мемуарах, но нам кажется справедливым предположить, что очередного поражения, потери еще одного острова адмиралу бы не простили. Президент и общественное мнение жаждали побед, и перед глазами нового главкома Тихоокеанского флота вставала печальная судьба предшественника — Хазбанда Киммеля. Вот и рискнул он последним, что было, пошел ва-банк. Действия американских авианосцев в сражении за Мидуэй, как нам видится, подтверждают эту идею. Формально сведенные в оперативное соединение в бою, они действовали по принципу «каждый сам за себя». Единого командования не было — нет, победа у Мидуэя не превосходство стратегического мышления, а беспрецедентное везение.
843
Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. — Т. 1. М., 1984. С. 144.
844
См.: Wallin N. Pearl Harbor: Why, How, Fleet Salvage and Final Appraisal. — Washington, 1968, p. 189—205.
845
IPHA., pt. 24, p. 1754.
846
Ibid., pt. 26, p. 101.
847
Цит. по: I Wallin N. Op. cit., p. 510.
848
Congressional Record... V. 87, pt. 9, p. 9826.