Илья Львович Дворкин
Бурное лето Пашки Рукавишникова
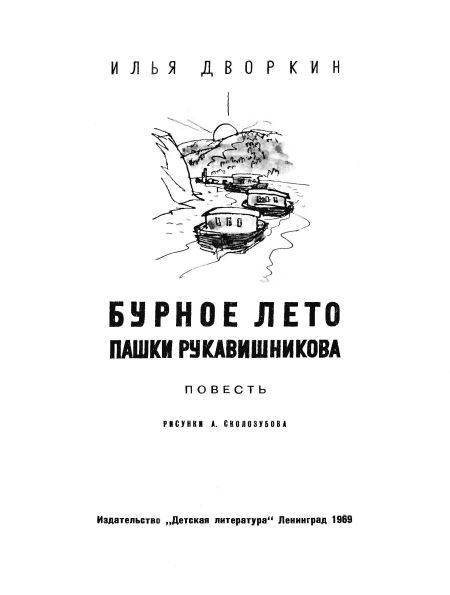
Глава первая. У бабы-яги

«Здравствуй, сын мой Пашка!
Вот мы наконец и добрались.
Место наше очень красивое, и название ему тоже красивое, только непонятное — Кайманачка.
Это село такое большущее. А рядом река огромная — Иртыш называется. А вокруг степь гладкая, как стол, или как футбольное поле, или как аэродром: куда ни погляди — всё вокруг видать до самого неба.
На ней растёт пшеница — уже жёлтая, а трава зелёная, а Иртыш серый, а небо синее, и солнце палит без передыху.
А ещё здесь растёт ковыль и пасутся кони. Есть и жеребята. Они смешные.
Ехали мы долго — целых восемь дней. Спали в машинах. Платформы-то у нас были открытые: ветерок обдувает и хорошо видно.
Я на всё глядел, прямо-таки таращился каждый день до темноты и много чего повидал.
Тайга красивая, а Урал так даже замечательный. Мы его днём проехали.
Вот, думал, жалко — Пашки моего нету.
Но ты ещё сам всё увидишь, когда вырастешь большой и умный.
А сейчас слушайся тётю Веру и будь хороший. Она хоть и ругается, и ворчит, а всё ж таки нам родня.
А я скоро приеду. Месяца через два. Вместе с мамой.
Пашка, гляди в Мойке не купайся, там вода жуть какая грязная, будет у тебя лишай. Лучше на Петропавловку сходи или в Озерки съезди. И у бережка лучше.
Целую тебя.
Твой отец Фёдор Рукавишников».
— У бережка, ишь ты, — проворчал Пашка и аккуратно сложил письмо, — сам-то вон куда укатил! И Урал там, и Иртыш, и как аэродром, и жёлтое, и зелёное. Расписал… А я тут пропадай. Будто помешал бы ему. Был бы бортмехаником. Эх!
— Так на самосвале бортмехаников не бывает, и потом они мотор знают, — печально отозвался Серёга.
— Подумаешь — не бывает! А в моторе он и без меня разберётся. Я бы машину мыл и в магазин бы бегал, и вообще…
— Да там, наверное, и магазинов нету. Там же степь.
— Степь… И кони, и зайцы, наверно, и эти… сайгаки. А он не взял. Думает, он один по маме соскучился. А я будто деревянный…
Пашка замолчал, и так ему стало пронзительно жалко себя, что, если бы не Серёга, он бы заревел. Но при Серёге никак нельзя было. И Пашка проверенным способом удержался — набрал полную грудь воздуха и напрягся так, что лицо стало сизым, а глаза вытаращились.
Серёга глядел в небо и потому ничего не заметил.
Пашка закрыл глаза и снова увидел отца. Такого, какой был в день отъезда — на себя непохожего, с растерянным лицом, суетливого.
Отец бестолково метался по комнате, брал ненужные вещи, совал их в чемодан. Потом спохватывался, краснел и от этого злился.
Он старался не глядеть на Пашку. Потому что глядеть на него было тяжело.
Пашка сидел нахохлившись на диване и так же, как сейчас, пыжился, надувался, чтоб не зареветь.
Вообще-то ревел он очень редко, в случаях совершенно исключительных, и только от обиды, а от боли никогда.
Во дворе и в классе Пашка считался человеком суровым, и этой репутацией своей дорожил.
Отец до последнего дня не говорил об отъезде. Он знал, что Пашка не станет канючить и хныкать, а будет вот так сидеть на диване, словно казанская сирота, и молчать.
А на Пашкиного отца это действовало посильнее рёва.
Когда мужчина распускает нюни, тут проще — можно и наорать на него, можно и по шее дать, чтоб замолчал. А вот попробуйте, когда он молчит и ничего не просит, а сам весь укор и обида и вселенская грусть.
Пашка отлично это понимал, и отец тоже понимал, и оттого злился, но поделать ничего не мог.
Жалко ему было Пашку.
— Пойми ты, чудак-человек, там такая свистопляска будет уборка ведь, сутками работать надо. Куда я тебя дену? И с едой не знаю, как там. Может, и поесть будет негде!
Пашка молчал.
— Ну, чего ты надулся, Паш? С тёткой прекрасно поживёшь. Переедешь к ней на пару месяцев. Уход за тобой будет. Обед, э, вкусный и каждый день.
Голос у отца был неуверенный.
Тётку Веру он, как и Пашка, не любил. Была она старуха вздорная, шумливая и нуда, каких мало.
Опять же оба это понимали, и отец сочувствовал Пашке. По глазам было видно.
В душе Пашки ещё теплилась надежда. Раз отец оправдывался, может, он ещё передумает. Передумает и возьмёт. Это было бы такое счастье, что и сказать нельзя.
Вот бы — через всю страну проехать, увидеть, как хлеб растёт, на машине от души поездить. Эх!
Но отец вдруг сказал:
— Мать предупреждала: не вздумай Пашку тащить в это пекло.
И Пашка понял, что это всё. Конец.
О маме они в последнее время не говорили. Ни слова. Потому что оба очень скучали. Пашка всегда догадывался, когда отец думает о ней. Такое у него лицо становилось. И отец, видно, тоже догадывался, потому что подходил тогда и молча притискивал Пашку к горячему твёрдому боку. А говорить не говорили. Так оба решили про себя с тех пор, как она уехала.
Мама у Пашки инженер-механик, вместе с отцом работает.
Она ещё месяца полтора назад уехала на целину. Ей там всё подготовить надо, чтоб машины потом без перебоев работали.
Вот так и получилось, что Пашка остался с тёткой.
Это хоть и в том же доме, на другой лестнице только, но жизнь настала совсем непохожая.
С отцом было привольно и спокойно. Самостоятельно.
А теперь у Пашки не жизнь, а каторга. Того нельзя, этого нельзя, туда не садись, это не трогай. Да-а…
— Съест она меня тут без бати, — сказал Пашка, — она меня каждый день поедом ест.
— Что ей от тебя надо-то? — спросил Серёга.
— А она сама не знает.
— Не слушай ты её, Пашка. Сделай вид, что не слышишь, и всё.
— Ха! Думаешь, не пробовал! Ещё хуже выходит. Она, как заметит, что её не слушают, прямо заходится. Ей это, как быку красное. У неё интерес ругаться пропадает. Подбежит и щиплется. «Я, — кричит, — твоему отцу ухи крутила, когда затыкал, а тебе и подавно откручу!»
— Это когда он маленький был?
— Ага.
— Вот ведьма!
— Ей-богу, ведьма! Когда все люди на земле были ещё маленькие, она уже тогда бабой-ягой была, — убеждённо сказал Пашка. Я всё помело ищу. Она его, по-моему, на антресолях прячет.
— И сту́пу? — спросил Серёга.
— И сту́пу тоже.
Лицо у Пашки было абсолютно серьёзное.
Серёга вздохнул. «Да… Везёт же человеку, — подумал он… — Отец с матерью на край света укатили, одна тётка имеется — и та баба-яга».
Даже если Пашка про помело врёт, всё равно интересно — а вдруг правда! Вот бы!
Серёга засмеялся.
— Ты чего? — спросил Пашка.
— Да я представил, как твоя тётка из трубы вылезает — чернущая — и на помеле в гастроном. С авоськой.
— Точно, с авоськой. С зелёной. Только не на помеле, а в ступе, не видел никогда, что ли? Она правил уличного движения не знает и катит под красный свет. А постовой как засвистит и готово — записал номер ступы. Попалась, голубушка! Пожалте бриться — платите штраф.
— А она? — глаза у Серёги загорелись.
— Она-то? А она постовому: «Чур! Чур тебя, — говорит, — тррах-тибидох!» И он уже не постовой, а… а верблюд!
— Верблю-юд?!
— Ну да. Жёлтый такой. А сам-то он ещё не знает, что верблюд, и всё свистеть пытается. А свистка-то нету. Только колокольчик на шее болтается — брень, брень.
— А потом?
— Ну, его, конечно, в зоосад. Попробуй докажи, что ты не верблюд. Тяжело. А всё она тётка Вера.
Пашка замолчал и задумался. Ему было совсем не смешно. Ему было печально и одиноко.
— Ну? — дёрнул его за рукав Серёга. — А потом? Потом-то что?
— Потом? А потом — суп с котом. Маленький ты ещё, Серёга, совсем салага. Тебе бы только сказки слушать, — безжалостно сказал Пашка, повернулся и зашагал прочь со двора.