


Г. Северина
ЛЕГЕНДА ОБ УЧИТЕЛЕ
Памяти учителя 127-й московской школы Я. Е. Северина и его учеников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается
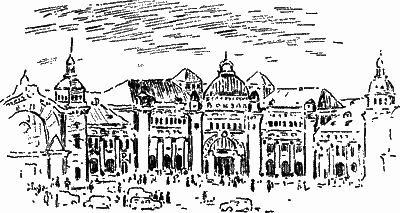
«КТО УВИДЕЛ ДЫМ ГОЛУБОВАТЫЙ…»
Поэт сидел на тахте, в такой же восточной позе, скрестив ноги, и так же тяжело, с шумом дышал. Над тахтой висела та же сабля, в светящихся аквариумах так же плавали фантастические рыбы. Только это уже было не в Кунцеве на Пионерской улице, куда я прибегала босоногой девчонкой, а в Москве, в самом центре — в проезде Художественного театра. Будто взяли все прежнее и бережно перенесли в другое место.
— Как хорошо, что все по-старому! — говорю я, не решаясь оторваться от дверей.
— Да. Постоянство, верность… — начал он и закашлялся.
Узнал ли он меня? Мы не виделись с тех пор, как умерла пионерка Валя, моя двоюродная сестренка, отказавшаяся перед смертью надеть церковный крест. Я выросла на целую голову. Но на мне по-прежнему пионерский галстук — символ той верности, о которой он говорит.
— Иди сюда! — передохнув, позвал он, и я поняла, что узнал. — Читала? — кивнул он на развернутую «Пионерскую правду». Там было напечатано длинное стихотворение под названием «Смерть пионерки».
— Да. Стихи о Вале, — ответила я и прочла вполголоса: —
— Видишь: песня о ней будет жить!
— Но ее все равно нет!
— Придут другие, такие же, как она.
— А пока все мои одноклассники, друзья разъезжаются. Чего-то ищут.
— Приложения сил.
— А верность родным местам?
— Они верны своим убеждениям.
Я подумала, что так же говорила наша вожатая Юля Кряжина перед отъездом на строительство Комсомольска-на-Амуре. А моя отчаянная подружка Женька Кулыгина ничего не говорила: уехала на Север учить маленьких чукчей и эвенков, прибавив себе в паспорте лишних два года. Вот кто давно уже взрослый.
— На их место пришли люди помельче и похуже, — хмуро сказала я, вспомнив пошляка Родьку, сменившего Юлю.
— Долго они не продержатся. Память же останется о лучших!
— Да, но сейчас их нет.
— Будут! Обязательно! А я… — Он снова мучительно закашлялся.
Нужно скорее уходить. Я и сама не знала, зачем пришла сюда. В погоне за ускользающим детством? Оно осталось в Кунцеве, на заболоченном пруду, где когда-то ловили тритонов и веселый, забавный Поэт заставлял нас, детей, стоять по стойке «смирно» перед заходящим солнцем.
И вспомнилось мне Кунцево. Дом под зеленой крышей. Тихая, полутемная комната. Мерцающие аквариумы. Рыбы, похожие на сказочных жар-птиц, чуть шевелили огненными хвостами. В зеленой водной глубине возникали легкие, как облака, дворцы. Глуховатый, напевный голос падал откуда-то сверху. Так мне казалось тогда.
Я как сейчас вижу эту раковину. Большую, желто-розовую, с загнутыми внутрь потемневшими краями. Она стояла на столике рядом с аквариумом. Я хотела взять ее в руки, послушать: правда ли, в ней шумит море? Но не решалась. Только с восторгом смотрела в смуглое, мужественное, как у капитана Гаттераса, лицо Поэта, на его крупные шевелящиеся губы…
Сейчас он очень болен, и я со страхом понимаю это. Поседел, пожелтел, постарел…
— «Кто услышал раковины пенье», — продекламировала я любимую строчку.
Он грустно улыбнулся:
— Нет. Лучше следующую: «Кто увидел дым голубоватый», дым, в котором скрывается наше прошлое.
В душе у меня что-то шевельнулось: может быть, это и есть ответ на мучивший вопрос, почему все предметы, знакомые с детства, вдруг повернулись другой стороной? А я и не заметила, когда это произошло! Куда девалась долговязая, упрямая девчонка Натка, с такой отвагой боровшаяся за свое право шагать в тесном строю пионерского отряда? Из зеркала больше не смотрит на меня смешная курносая девчонка, готовая на любой безрассудный поступок. Ее нет. Чужие тревожные глаза. Вытянувшееся лицо. Привычка часто задумываться.
«Ну, чего уставилась?» — говорят мне часто посторонние.
В самом деле — чего? И что меня привело сюда, в дом больного Поэта?
…В июне мы закончили семилетку в маленьком подмосковном поселке Немчиновке. Нам выдали синенькие книжечки-удостоверения и пожелали доброго пути. Больше нам в школе делать было нечего. Другие ребята становились ее хозяевами.
Мы сошли со старого школьного крыльца и враз рассеялись. Поразило то, что мы уже не были вместе. По двое, по трое, а кто и в одиночку уходили мы от родного порога.
— Постойте, ребята! Куда же вы? — испуганно закричала я, вдруг остро ощутив необратимость этой минуты. Вот сейчас все разойдутся, и захлопнется накрепко дверь в прошлое. Но ведь оно было, это прошлое, хотя нам всего по пятнадцать лет. Его нельзя зачеркнуть. — Ребята-а!
Кое-кто обернулся на мой голос, прощально махнул рукой. Но многие уже ничего не слышали или не хотели слышать, вроде Тоськи Петреева, моей первой детской привязанности. Он шел с хорошенькой Женей Барановской из 7-го «Б» и заливался счастливым смехом. Сильный, загорелый парень в щегольских серых брюках, давно сменивший короткие пионерские штаны. Да Тоська ли это?
Я закрываю глаза и ясно вижу другого Тоську — озорного мальчишку в красном галстуке. Вижу наше боевое звено ровесников, с песней шагающих по поселку, нашу любимую вожатую Юлю Кряжину в неизменной юнгштурмовке, с портупеей через плечо. Где все это? Рядом со мной только Жорка Астахов, бывший неустанный барабанщик. Мы стоим посреди улицы и считаем по пальцам, кто куда делся. В сущности, наше пионерское звено распалось уже после шестого класса, когда уехала Юля. Седьмой мы начали фактически вчетвером: Тоська, Гришка, Жорка и я. Что мы могли сделать? Правда, меня выбрали председателем учкома. Ребята помнили последний разговор с Юлей и хором кричали: «Натку-у! Дичкову-у!» Вошли в состав учкома и Тоська с Жоркой — остатки старой гвардии. Жорка стал моим помощником по учебной работе. Тоська занялся, как и хотел, стенной газетой. Гриша, передав свой горн кому-то из младших мальчишек, стал делать доклады о международном положении. Иначе как обложенного газетами мы его не видели. Позже, когда нас приняли в комсомол, Гриша стал секретарем ячейки.
Все мы были очень заняты этот год. Прямо с ног сбивались, носясь до позднего вечера по школе. Но полной безраздельной радости не испытывали. Что-то ушло от нас, и мы знали, что именно: пионерская жизнь. Больше всех грустил Жорка. Он упорно не снимал пионерский галстук, сердился на нашу беспомощность.
Дело в том, что мы совершенно не сошлись с новым вожатым Родионом Губановым.
Его прислали к нам из райкома комсомола в первые дни занятий. Щуплый, курносый, белобрысый, с глазами как буравчики. Но суть не в этом, как говорил Жорка, хотя мы ждали, конечно, более представительную фигуру. А в том, что на первом же сборе нашего отряда он энергично объявил, становясь на цыпочки:
— Я сказал — и баста! Выполняй! Мало ли что у вас при какой-то Юле было. При мне по-другому повернется!
Может, он хотел таким путем завоевать авторитет, заставить считаться с ним? Напрасные старания: Юля никогда не пыталась возвышаться, а любили мы ее без памяти.