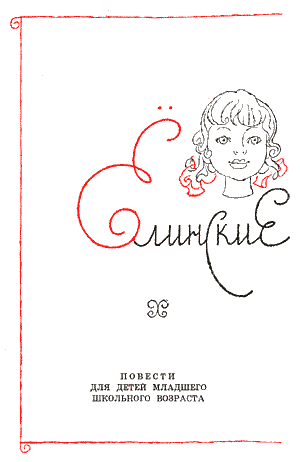
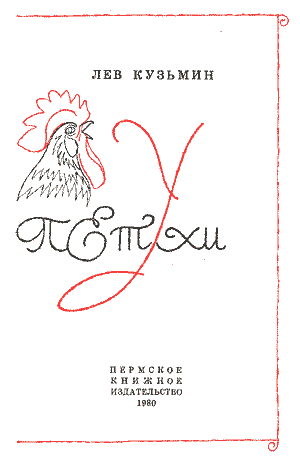
Лев Кузьмин
ЁЛИНСКИЕ ПЕТУХИ

КАК Я ПОПАЛ В ЁЛИНО
В деревеньку Ёлино я бы ни за что не попал, если бы мой приятель Федя не подарил мне на день рождения свой старенький, но совершенно исправный фотоаппарат.
А был этот Федя не просто хорошим, добрым Федей, — он ещё и работал в газете, в редакции.
Вручая мне подарок, Федя сказал:
— На, щёлкай. А то ты всё больше нам сказки приносишь. И сказки, разумеется, хорошо, да всё ж для газеты новенький фотоснимок прямо из самой жизни куда лучше. И для газеты лучше, и для тебя. Глядишь, пощёлкаешь, пощёлкаешь, да вдруг и снимешь что-нибудь такое замечательное, что и себя прославишь, и наша газета прославится ещё пуще. Согласен?
— Как не согласен! — ответил я и тут же защёлкал.
Целых три дня я бегал по городу, всё щёлкал и щёлкал. А на четвёртый примчался в редакцию к Феде. Он на снимки посмотрел, покачал головой и заявил:
— Не то! Всё, что ты снял, было в газете сто раз. А если было — значит, уже и не замечательно. Попробуй, сделай ещё один заход.
Я сделал и опять услышал:
— Не то!
Я хотел пуститься в третий заход, да тут Федя глянул не на снимки, а на самого меня, вскочил и налил мне полный стакан воды:
— Успокойся, успокойся! Давай поедем в Ёлино. Здесь ты и впрямь ничего не добьёшься. Тут, в городе, и пошустрей, чем ты, снимальщиков полно, а в Ёлино, я уверен, тебе вмиг повезёт. У меня как раз в те края командировка, я тебя и до места доставлю, и там устрою.
И вот я уселся с Федей в его служебный газик и покатил в то самое Ёлино, распрекрасней которого, по словам Феди, ничего нигде не было, нет и не будет.
— Не деревенька, а клад. Одна природа чего стоит. Ёлки там до небес, земляника — с чайную чашку, грибы-рыжики — вот с это колесо! — хлопал Федя по рулевой баранке и ловко направлял газик по ухабистой пыльной дороге.
Направлял, опять расписывал:
— Речка тамошняя — вообще диво! Светлая, как стёклышко; тёплая-претёплая, как парное молоко; а берега у речки…
— Сладкие, кисельные! — подначивал я Федю, да он всё равно твердил:
— Не ехидничай. К хозяину я тебя поселю тоже к чудесному. К Тимофею Семёнычу Ухову. А попросту — к Тимоше… В общем, гляди вокруг лучше, и скоро всё увидишь сам.
НОЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА
Выбрались мы из города поздно. Пока проехали половину пути, вечерняя заря в небе отполыхала.
Стало очень быстро темнеть. И только пыльный просёлок среди овсяных полей смутно белел, да ярко светился над нами рожок месяца. Он всё бежал и бежал, не отставая от нас, и при его слабом сиянии было видать лишь, как мелькают лохматые кусты у дороги, да как проплывают назад сонные, похожие на острова перелески. А дальше — опять ночь, опять убегающие во тьму поля.
Но вот наш газик взлетел на пригорок, нырнул вниз, и совсем рядом блеснула речка. Над речкой зачернели ёлки. Из-под них проклюнулся один огонёк, второй огонёк, и Федя объявил:
— Приехали!
Не включая фар, он миновал какие-то сараи, поленницы и встал у тихого дома под самым окном.
Там шевельнулась тонкая занавеска, кто-то прибавил в керосиновой лампе огня, на траву упал тёплый свет.
В доме затопали, побежали. Хлопнула дверь на крыльце за глухим забором, в потёмках двора вдруг ласково заойкал, заторопился женский голос:
— Ой да это кто к нам приехал? Ой да это Феденька к нам приехал! Ой, погоди, Феденька, погоди, сейчас ворота отворю.
— Не открывай, тётя Маня, не надо. Я дальше тороплюсь, а к вам постояльца привёз. Тимоша где? Спит, что ли?
На той стороне ворот забрякал деревянный засов, голос весело ответил:
— Что ты, Феденька! Разве позабыл, каков у нас Тимоша? Все добрые мужики об эту пору по домам сидят, а он, глядя на ночь, на своём тракторе в Калинкино укатил. Шефы попросили! У них какой-то трос лопнул, вот Тимоша за новым и укатил.
Тяжёлый засов упал на траву, женщина там, за воротами, засмеялась ещё ласковей:
— Нашего Тимошу и просить долго не надо. Ему лишь скажи, он тебе на луну скатает.
— На луну хоть кто скатает. Было бы на чём! — засмеялся Федя, вылез из кабины, и я тоже выбрался на вольный воздух.
Выбрался, смущённо спрятал за спину фотоаппарат и запереживал: вдруг тётя Маня без Тимоши-то на квартиру и не пустит?
А она уже гулко и широко распахнула створки ворот. Во тьме мелькнул её белый платок, и я тут же увидел, что она совсем молодая, хотя Федя и называет её тётей Маней.
Вышла она к нам легко, голос звонкий:
— Что за постоялец? Дай погляжу!
— Погляди, — слегка подтолкнул меня Федя в спину, — погляди. Это мой приятель.
Я сам шагнул к тёте Мане, да она вдруг так и охнула:
— Ну и видок!
Я смутился ещё больше. Видок у меня и вправду был не очень-то… Рубаха старая, мятая, рисунки на ней всё какие-то несерьёзные — кружочки да горошинки, кружочки да горошинки; брюки и те на коленях пузырями. А туфли настолько истрёпаны, что сквозь их тонкие подошвы я чувствовал, какая тут, на лужайке, мягкая трава.
«Эх, Федя! — подумал я с укоризной. — Надо было подсказать, что здешние хозяева принимают гостей по одёжке. Тогда бы я постарался, приехал во всём параде — при шляпе и даже при галстуке».
От смущения я затолкал фотоаппарат дальше за спину и стал торопливо нашаривать на воротнике пуговицы, а тётя Маня засмеялась ещё веселей:
— Ты что? Муку весь день молол?
— Почему муку? — удивился Федя.
— Почему молол? — удивился я и хлопнул себя по рубахе.
А как хлопнул, так надо мной в тусклом свете окна взвилось облако пыли, и Федя чихнул:
— Точно! Совсем как мельник. Это он, тётя Маня, всё Ёлино прозевать боялся. Всё высовывался из кабины, вот и пропылился насквозь. Так что ты непременно его приюти. Пусть он у вас отдышится на чистом воздухе.
— Подышу, в речке искупнусь, а в благодарность сниму всю вашу здешнюю природу на карточку.
Но тётя Маня мне только и ответила:
— Дыши, снимай на здоровье.
А потом точно так же, как Федя, сказала:
— У нас тут не природа, а чистый клад.
И она не спеша теперь обернулась к освещённому окну дома, оглядела тёмный двор со всею оградою, с навесом, с чёрной в глубине двора построечкой и добавила задумчиво:
— Только где ж я тебя поселю? Разве что вот тут, в избушке. В доме-то у нас шефы спят и на лавке, и на полу повалом, а в избушке пусто… Пойдёшь туда?
Я мигом согласился.
ШЕФ ПАША
В это время окно над нами распахнулось, и кто-то громко и нараспев позевнул на всю улицу:
— Уэ-хэ-хэ…
Позевнул, сказал:
— Теснота не скука. Валяй всё ж таки к нам.
У окна стоял долговязый лохматый парень. Он так сладко потянулся, что майка на нём затрещала.
За спиною парня возникли ещё чьи-то встрёпанные спросонья головы.
А впереди всех на широкий подоконник навалился голым животом мальчик. Было ему лет семь, не больше. Тёплый свет лампы падал на мальчика из глубины комнаты, и от этого жёлтый вихорок на его макушке казался тоже очень тёплым и лёгким, как цыплячий пух. Мне даже подумалось, мальчик сейчас качнёт этим своим вихорком, засмеётся и скажет: «Чивли-чив!»
А тётя Маня нахмурилась:
— Дементий! Ну что же ты вытворяешь? После бани — и голышом! Смотри, насморк схватишь. Марш в постель, Дёмушка, марш!
Дементий-Дёмушка съехал с подоконника, пригнулся, что-то там у себя, должно быть, трусишки, поддёрнул и спрятался за косяк.
Федя взмахнул шляпой, поклонился лохматому:
— Шефу привет! Простите, не вовремя побеспокоили.