– Глянь-ка, лошадь…
Человеческий голос заставил Эсэ насторожиться. В дулге царил густой вечерний сумрак, но снаружи было ещё достаточно светло.
– Да, лошадь, – откликнулся второй голос. – Седло-то какое! Чтоб мне пусто было, если это не колчан к седлу прицеплен. Похоже, кто-то из диких, раз с луком разъезжает. Нынче лук мало кто пользует. Я, сказать честно, ни разу никого с луком не видел. Кто же тут есть, Кондрат?
– Не Тонги ли?
– Не-е, Тонги лошадей не уважают, они всё больше оленный люд.
– Стало быть, Якут, – заключил первый голос. – Я слыхал, что в тутошних местах дикарь какой-то разбойничает. Поговаривают, что уж не первый год лиходействует. Кондрат, а ежели это его конь?
– Ты языком-то не шибко мели, уши лучше насторожи, язви тебя в душу!
– Что-то не видать никого. Не в избе ли он притаился?
– А ну поворотись вон туда. Вишь, жердь торчит, сумка к ней привязана какая-то лохматая, шалашик какой-то внизу, рога к нему приставлены оленьи. Небось идолище. Надобно ухо востро держать. Поганое тут место. Чур меня…
Эсэ очень осторожно, чтобы не произвести ни малейшего звука, опустил ноги на земляной пол и шагнул к приоткрытой двери. В быстро сгущавшейся мгле он увидел двух людей в длинных охотничьих куртках, перепоясанных патронташами. Один из говоривших вёл под уздцы серого прихрамывавшего коня, второй сидел верхом на рыжей кляче. Оба остановились и настороженно осмотрели холм. Тот, что вёл коня под уздцы, скинул с плеча двуствольное ружьё, поспешно переломил его, проверяя, заряжено ли оно, и взял его наперевес.
– А что, Кондрат, верно говорят, что их некоторые шаманы людей пожирают?
– Глупости, – Кондрат передёрнул плечами, – никогда такого не видел. Хотя…
– Что «хотя»? Чего же ты умолк?
– Прикуси язык, леший. Сердце что-то колотит сильно. Не к добру это.
– Кондрат, я вот слышал от мужиков, что этот Якут разбойный вроде не убивает никого, а только грабит. У нас с тобой и отнять-то нечего.
Эсэ потянулся к ружью, оставленному на нарах. Он, как верно заметил только что один из охотников, никогда не убивал людей. Он резал скот и дырявил стрелами сторожевых собак. Совершая разбойные нападения на мелкие караваны, он угрожал путникам оружием, стрелял над их головами, мог даже ударом приклада свалить кого-нибудь с ног и лишить сознания, но ни разу не пускал пулю в человека. Возможно, некоторые из тех, кому он нанёс удар по затылку, умирали, так и не придя в себя, но Эсэ не знал об этом. Он не желал им смерти. Был лишь один человек на всём свете, кого Эсэ убил бы при встрече без колебаний, – сын того русского, который застрелил Бэса. Но Эсэ не представлял, где и как искать его. Другие русские его не интересовали. Однако сейчас он вдруг взял винтовку. Вкус крови, оставшийся во рту после забывшегося сна, ощутился с новой силой. А что, если один из этих незнакомцев и есть тот самый сын? Не случайно он видел только что во сне отца с пригоршней крови. Это, конечно, был знак.
– Кровь подскажет мне, – вспомнилось наставление отца. – Видно, один из них и есть нужный мне человек. Но который? Я застрелю обоих… Ах, почему я никогда не помню видений и забываю наставления, пришедшие во сне?..
Он приучил себя никогда не спешить, поэтому стрелял без промаха. Он знал, что всегда лучше выждать лишнюю минуту, чем спугнуть жертву. Точна пущенная пуля или стрела означала сытный ужин; поспешность и суетливость сулили голод. Сейчас он взял винтовку не для того, чтобы обеспечить себя пропитанием, но это не повлияло на его неторопливость. Он упёр приклад в плечо и просунул ствол в дверной проём. Первой целью он наметил человека с ружьём в руках. Он успел рассмотреть его шелушившуюся кожу лица, потрескавшиеся губы с двумя большими коричневыми болячками, грязный шарф, туго обёрнутый вокруг шеи, засаленный картуз.
Эсэ потянул спусковой крючок, и за брызнувшим пороховым дымом увидел взметнувшиеся вверх руки русского. Второй закружил на месте, пытаясь сдержать заплясавшую от страха рыжую кобылу. Он прокричал что-то невнятное в сторону дулги, прижался к шее лошади, затем попытался снять с плеча своё ружьё. Эсэ передёрнул затвор и выстрелил снова. Пуля пробила жертве грудь и свалила его в пожухлую осеннюю траву.
Вкус крови во рту Эсэ усилился.
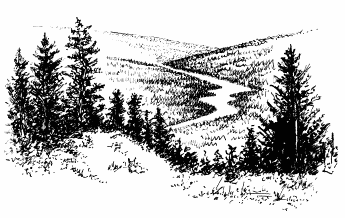
***
Ивану Васильевичу Селевёрстову 1 сентября 1880 года исполнилось ровно двадцать семь лет, и в этот день у него кончились последние деньги. Для человека, не привыкшего ни к какой работе, это означало большую беду. Впервые за время долгого путешествия из Санкт-Петербурга в Сибирь Ивана Васильевича охватила настоящая паника. В Олёкминске Селевёрстов жил уже пятые сутки, спустившись вниз по течению Лены из Иркутска, и готов был плыть дальше, но купцы, к обществу которых он прибился, остановились здесь на неопределённое время, поджидая кого-то из своих задержавшихся в пути товарищей.
Олёкминское население, толпясь живописными кучками, праздновало прибытие последнего парохода. Поздним летом в Олёкминске редко бывало шумно. Настоящее оживление там было заметно ранней весной, перед открытием навигации, когда посёлок превращался в центр, где жизнь била ключом: туда стекалось множество рабочих, жаждавших найма, уже нанятых матросов, лоцманов, горнорабочих. С открытием навигации товары всегда подвозились громадными партиями, ежедневно вниз по реке отправлялись суда самого разного рода. На лодках, установленных в один ряд возле самого берега и накрытых брезентовыми навесами, открывалась бойкая ярмарка. Вечерами весь посёлок оглашался песнями, звуками гармонии, криками и бранью. Такое шумное существование продолжалось до конца июля, затихая к середине августа, к началу же осени село заметно пустело и жизнь в нём замирала до следующей весны.
Стоя посреди улицы, Иван Васильевич Селевёрстов наблюдал последний, видимо, в том году праздник. Повсюду перед избами сидели на лавках бабы и старики. Перед добротно срубленным кабаком шумели, размахивая руками, пьяные мужики. Среди них возвышалась шатающаяся фигура могучего рыжеволосого бородача; он сжимал в руке штоф и, то кланяясь до земли, то норовя поцеловать кого-то из товарищей, угощал их водкой. Справа пестрела гурьба молодиц в ярких сарафанах. Посреди улицы толпа ребятишек окружила небольшую телегу, запряжённую клячей, и худощавый разносчик, потрясая козлиной бородой и сыпля прибаутками, предлагал пряники и крендели. Чуть позади возвышался над избами синий купол церквушки, резко выделяясь на порозовевшем фоне предзакатного неба.
Иван Васильевич держался в стороне, не решаясь пройти сквозь пьяную толпу. Его страшили могучие кулаки и бранная речь мужиков, не меньше пугали его и появившиеся возле кабака матросы. Эти матросы сошли на берег днём с двух пароходиков, подошедших к пристани. Внешний вид этих длинных плоскодонных посудин был столь непривычен, что сразу привлёк внимание Селевёрстова. Колёса на пароходиках располагались не сбоку, как обычно, а сзади; что до котлов и машин, то они стояли не внутри корпуса, как обыкновенно, а на палубе – котёл на носу, а машина на корме. Каюты тоже были устроены на палубе в виде дощатых сараев. С первого взгляда на пароходы Иван убедился в их особенности, и это убеждение навело его на мысль, что начальство тоже было людьми особенными. Селевёрстов подумал, что капитан непременно примет его на борт, если Иван объяснит ему своё положение.
С самого момента прибытия пароходиков Селевёрстов выискивал глазами капитана, но не мог заставить себя подойти к пристани. Теперь же, когда команда изрядно набралась водки и потянулась обратно к своим плоскодонкам, Иван понял, что тянуть больше нельзя. Пароходы могли отчалить в любой момент. Утомлённый ожиданием и собственной нерешительностью, он пошёл следом за шумной толпой. Отставая на десяток шагов от основной команды, плелись два здоровяка в порванных рубахах; по щеке одного из них стекала кровь из-за уха.
Эти двое продолжали медленно идти по дороге, качаясь из стороны в сторону, когда другие матросы уже поднялись на палубу. Тут Иван Селевёрстов заметил фигуру, черты лица которой показались ему знакомыми. Человек был одет в простые штаны и свободную куртку, но его осанка и манера держать голову выделяли его среди матросов, а тот факт, что вся команда кланялась ему, проходя мимо, говорил о его высоком положении на пароходе. В руках этого начальника Селевёрстов приметил ружьё, убранное в непривычного вида чехол из весьма мягкой кожи и украшенный довольно длинной бахромой по всей длине чехла. Приклад, впрочем, оставался открытым.