— Ну что ж, — сказал Сэм Адамс с лёгкой досадой в голосе, — ради него не стоит тут задерживаться. Это ружьё отстреляло. Он всё ещё болтает о естественных правах человека и славе Британской империи! Нам с тобой, Джон, не мешало бы отправиться спать — как-никак, поднимаемся на рассвете!
Отис втащил свою тушу на лестницу. Хоть ему и не были рады, никто не позволил себе уйти. Мистера Отиса тотчас окружили всевозможными знаками уважения, усадили в удобное кресло, предложили кружку пунша. Казалось, он в этот вечер не был в болтливом настроении. Широкое, румяное, добродушное лицо поворачивалось направо и налево, небрежно кивая знакомым. Он по-прежнему чувствовал себя великим человеком, не подозревая, что на него смотрят, как на веху, давно оставленную позади.
Он понюхал пунш, затем пригубил его.
— Сэмми, — обратился он к Сэму Адамсу, — мой приход тебя перебил. Ты начал было говорить: «мы будем драться…»
— Ну что же, говорил. Я не скрываю.
— За что же мы будем драться?
— За то, чтобы освободить Бостон от этих проклятых красных мундиров…
— Нет, — остановил его Отис. — Мальчик, налей-ка ещё пуншу. Ради этого не стоит затевать войну. Английские оккупанты в Бостоне ведут себя чрезвычайно деликатно. Разве они закрыли хоть одну мятежную газету? Прервали хоть одну речь, направленную против правительства? Я не вижу, чтобы кого-нибудь расстреливали, чтобы тюрьмы ломились от политических преступников. Где же ваша виселица, Сэм Адамс и Джон Хэнкок? Её так и не возвели. Я не меньше вашего ненавижу этих проклятых английских солдат, которые заполонили мой город, но не для того мы затеваем гражданскую войну, чтобы изгнать их из Бостона. Зачем, за что собираемся мы драться? За что, ну?
Наступило неловкое молчание. Сэм Адамс был признанным вожаком, ему и отвечать.
— Мы будем драться за права американцев! Мы не дадим Англии грабить нас налогами.
— Нет, нет. Есть кое-что поважнее, чем бумажники наших американских граждан.
Рэб сказал:
— За права англичан на всём земном шаре.
— Почему же ограничиваться англичанами?
Отис входил в раж. У него был широкий, кривой, великодушный рот. Он откинулся в кресле и начал говорить. Джонни в жизни ничего подобного не слыхал! Где-то в недрах этого большого тела рождались слова, которые выходили непрерывным потоком из этого широкого рта. Голос ни на минуту не повышался, слова лились одно за другим. У Джонни начала кружиться голова от одного, звука слов, за смыслом которых он не всегда успевал следить. Мягкий грудной голос обрушивался на него лавиной, увлекал за собой.
— …За мужчин, и за женщин, и за детей всего мира, — говорил голос. — Ты прав, высокий черноволосый юноша, ибо, если мы сейчас убиваем британского солдата, мы сражаемся за его же права, которыми он будет наслаждаться через сто лет после нас… Произволу будет положен конец. Горсточка людей не может забрать власть над тысячами. Каждый человек будет выбирать себе правителя… Французские крестьяне, русские крепостные. Сегодня они ведут ещё полуживотное существование. Но оттого, что мы вышли на борьбу, они увидят свободу, как некое новое солнце, поднимающееся с запада. Те самые естественные права человека, которые господь бог дал всем и каждому, самому убогому из нас… — Отис вдруг улыбнулся и прибавил: — и даже сумасшедшему. — Он отпил большой глоток из кружки. — …Победа, которую мы одержим над тёмными силами в Англии, пойдёт на пользу её же сыновьям. Так ли у них самих благополучно, если уж говорить о налогах? Им будет лучше, когда мы победим в этой войне. А французские крестьяне — неужели они так и будут всегда срывать с себя шапки и приговаривать: «Слушаюсь, сударь» — всякий раз, как золочёная карета задавит кого-нибудь из их детей? Не будут. Италия… А все эти немецкие государства? Неужели там одни солдаты? Неужели никто не укажет им на права честных граждан? Итак, мы поднимаем наш факел — и мы помним, что впервые зажгли его от английских костров, — мы утвердим его, как новое солнце, которое будет светить новому миру…
Сэм Адамс, мечтавший выспаться накануне своего отъезда в Филадельфию, слегка улыбался, кивая седой головой как бы в знак одобрения. Он скучал. Не всё ли равно, думал он, что скажет Джеймс Отис, даже если на него и нашло просветление?
Но ясное, отзывчивое лицо Джозефа Уоррена пылало. Казалось, факел, о котором говорил Отис, отражался в его глазах.
— Мы счастливые люди, — сказал он вполголоса, — ибо нам есть за что умирать. Не всякому поколению выпадает эта честь.
— Наполни мне кружку, мальчик, — сказал Отис, обращаясь к Джонни.
Он выпил её до дна, вытер рот тыльной стороной ладони и только тогда снова заговорил. Все молча ждали. Он всех словно околдовал — и не впервой!
— Говорят, — начал он, — что я потерял свой ум после того, как этот чиновник на таможне стукнул меня по голове. Ведь вы так думаете, мистер Сэм Адамс, не правда ли?
— Что вы, мистер Отис!
— Иные из нас отдадут свой разум, — продолжал он, — иные — имущество. Слышите, Джон Хэнкок, имущество! Или жалко? Отдавать свои серебряные сервизы, выезд, коней, золотые пуговицы на расшитых камзолах и кое что ещё…
Хэнкок взглянул Отису прямо в лицо, и Джонни ощутил вдруг прилив тёплого чувства к нему.
— Я готов, — сказал Джон Хэнкок. — Обойдусь без всего этого.
— А тебе, Поль Ревир, которого бог создал для серебра, а не для войны, тебе придётся отказаться от своего серебряного литья, от любимого дела.
Ревир улыбнулся:
— Всему своё время. Время лить серебро и время лить пушки. Если это и не сказано в священном писании, то по недосмотру.
— Доктор Уоррен, у вас молодая семья. Вы отлично понимаете: если вас убьют, ваши близкие могут умереть с голоду.
Уоррен отвечал:
— Я знаю. Я думал об этом.
— А ты, Джон Адамс? У тебя, я заметил, набирается изрядное число клиентов — из тех, кстати, что ты отбил у меня. Ну, да ладно! Каждый отдаст что может, а некоторые, — тут он посмотрел в упор на Рэба, — некоторые отдадут свою жизнь. Все годы своей несостоявшейся зрелости. Умереть молодым — это не только умереть; это значит — потерять большую часть своей жизни.
Рэб смотрел Отису прямо в глаза. Он стоял, скрестив руки на груди. Голова его слегка откинулась назад, рот чуть раскрылся, словно он хотел что-то сказать. Но он не проронил ни слова.
— Да и ты, мой старый друг — или старый враг? Как мне назвать тебя, Сэм Адамс? Даже ты отдашь лучшее, что у тебя есть, — твою страсть к интриге. Отправляйся себе в Филадельфию. Пускай им пыль в глаза, нажимай на все кнопки, дёргай за все проволочки. Ступай, ступай! И да сохранит тебя бог. Ты нам нужен, Сэм! Мы должны пойти войной. Ты будешь играть предназначенную тебе роль… — но за что мы воюем… о том тебе не дано знать.
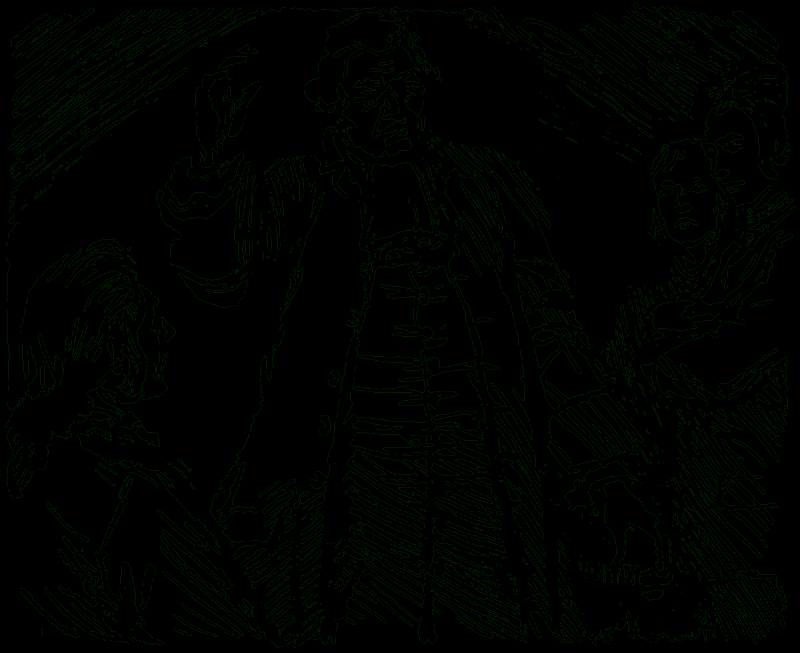
Джеймс Отис встал, голова его почти касалась балок, которые пересекали потолок чердака, придавая ему форму шалаша. Отис раскинул руки.
— Всё гораздо проще, чем вы думаете, — сказал он. Он поднял руки и упёрся ими в балки. — Мы отдаём всё, что имеем, — жизнь, имущество, спокойствие, своё уменье, — мы сражаемся и умираем за самое простое: за то, чтобы человек мог выпрямиться во весь свой рост.
Он коротко кивнул головой и исчез.
Джонни стоял рядом с Рэбом. Ему стало не по себе, когда мистер Отис сказал: «иные отдадут свою жизнь» — и посмотрел в упор на Рэба. Отдать жизнь за то, чтобы «человек мог выпрямиться во весь свой рост».
Сэм Адамс снова оказался в центре внимания. Он опять стал застёгивать свой сюртук, собираясь уходить, но на прощание повернулся к Ревиру:
— Ну вот, теперь, когда он ушёл, мы можем с вами обсудить предложенную вами систему разведки в Бостоне.
Поль Ревир, как и друг его Джозеф Уоррен, всё ещё находился под обаянием Джеймса Отиса.
— Я никогда не думал об этом так, — сказал он, не отвечая на слова Сэма Адамса. — Мой отец, как вы знаете, был вынужден бежать из Франции из-за тамошней тирании. Он был тогда ребёнком. Я буду сражаться за этого ребёнка… чтобы ни один запуганный ребёнок не был вынужден бежать из своей страны ни из-за своей расовой принадлежности, ни из-за вероисповедания.