— Что, что? Что вы сказали?
— Я говорю, вымирающие на земле виды — беловежские зубры, дунайские пеликаны, хвощи и домашние работницы.
— Вам хорошо смеяться, а мне каково? И не помощь мне ее нужна. Но что я буду делать дома одна — рассветает поздно, темнеет рано. Даже по телефону, как у нас на Трехгорке говорили, «потрепаться не с кем»... Но сегодня ужас как повезло. Вы себе представить не можете. Слышите? Что вы на меня так уставились?
— Вы мне очень нравитесь.
— Опять. Вы же приняли мои условия... Так вот, хожу в Дивноярском по базару, купила мясо, луку, меду, шерстяные носки купила себе — дома ходить, вдруг встречаю одного человека. Он из Кряжова: огромный, бородища как у Карла Маркса, даже длиннее. Громадный мужчина, эдакий Ермак Тимофеевич.
— Ну и что же этот Ермак Тимофеевич? — Надточиев старался не смотреть на разгоряченное морозом и ветром лицо спутницы, на длинные ресницы, на которых белели крупицы инея.
— О, это целая история! Представьте себе, шагает он, тащит какие-то удочки или снасти и пузатую рыбину, похожую на аэростат. Там разные тетки за ним: «Почем рыба? Сколько за килу?» А он будто не слышит. И вдруг увидел меня, узнал, поклонился, и из этих его зарослей, вижу, выползает улыбка. Я тоже: «Не продадите ли? Какая цена?» Он: «Пятачок». — «Что? Пять рублей? Или пятьдесят?» Он: «Пятачок»... Тут я вдруг вспомнила, что он...
— Ермак Тимофеевич?
— Сакко Иванович, не надо смеяться: по-видимому, это действительно хороший и несчастный человек... Так вот он говорит «пятачок», а я вспомнила, что он за эти деньги жене Поперечного целую корзину грибов отдал.
Суюсь в сумочку — пятачка нет. Он протягивает мне рыбину и, представьте себе, говорит: «Будете в Кряжом, расплатитесь». И пошел, даже не оглянулся.
— Хорошо, что вы при нем спичкой не чиркнули, — усмехнулся Надточиев.
— Почему?
— Вспыхнул бы голубым пламенем и сгорел: так он весь проспиртован... Я его на охоте встречал. Это какой-то колхозный механик, запойный, бедняга, и как войдет в пике́ — чудит.
— Ну зачем вы мне настроение портите! — воскликнула Дина хмурясь. — Так все было интересно, и вдруг: «запойный», «чудит»... Ну ладно. Слушайте дальше. Мои удачи еще не кончились. Едем домой, знаете, по этой обходной дороге. И вдруг впереди девушка — высокая, стройная, в черном полушубке, серым мехом отороченном, в красном платке: Василек!
— Василек?
— Ну да, Василиса, дочь Седых. Вы ведь их знаете. Ну а я у них жила. Оказывается, она в «Заготпушнину» шкурки сдала, порох получала, дробь или пули, что ли. Грустная. «Что такое?» А видите ли, заходила по пути к нам на учебный комбинат и узнала — курсы английского языка есть, а немецкого — нету. А у них на Кряжом, надо вам сказать, немка умерла. Весь выпуск «безъязыкий» вышел, и она из-за этого в медицинский институт провалилась.
— Так чему же вы обрадовались? — спросил Надточиев, осторожно беря ее под руку, но она тут же мягко отстранилась:
— Не надо. Это ведь не Москва. Здесь столько глаз, и этот ужасный узун кулак... Завтра все заговорят, что инженер Надточиев в рабочее время прогуливается под руку с женой временно исполняющего обязанности начальника строительства.
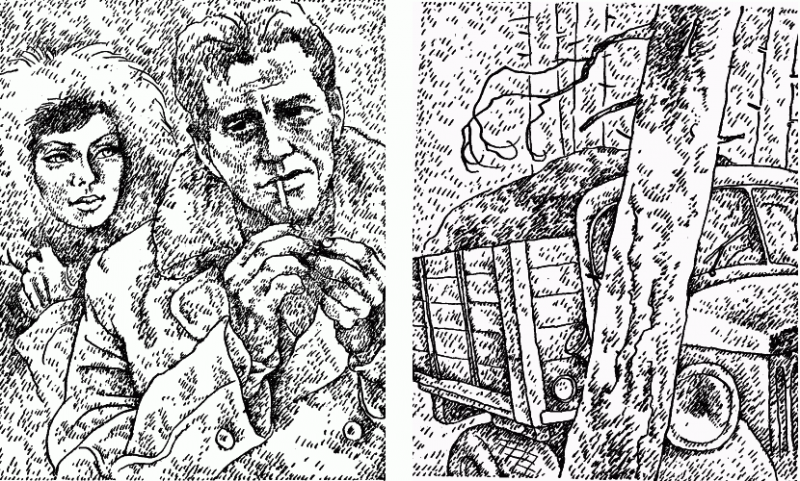
— А вы боитесь?
— Нет, не боюсь. Вячеслав Ананьевич выше ревности. Но положение обязывает... — И вдруг, как бы превращаясь в девочку, она зачастила: — Нет, слушайте, слушайте, так только в кино бывает, и то только в самых плохих фильмах. Ей нужен немецкий язык, а у меня есть диплом курсов иностранных языков. И договорились — Василек приедет ко мне жить, будет мне помогать по хозяйству, а я буду готовить ее к экзамену. Здорово, правда?.. Она чудная девушка, умница, очень интеллигентная и притом охотница. Я как-то усомнилась, как это можно одной дробинкой попасть белке в глаз. Она сняла со стены мелкокалиберную винтовку, как она выражается — мелкашку, показала мне вдали маленькую шишку где-то в ветвях сосны — бах, и шишка вдребезги. А сама такая... Я понимаю теперь, почему в старину говорили — кровь с молоком.
Сами того не замечая, они стояли у заваленного снегом палисадника перед домом, в одном из окон которого, спущенная из форточки на шнурке, белела толстая, будто алюминиевая рыбина. Было морозно. У Надточиева ломило от холода лоб, мерзли уши. Он даже не притрагивался к ним, не стряхивал с волос иней. Лишь бы она не ушла...
— Это та девица, которая всем дает звериные прозвища? Интересно, как бы меня определила ваша Василиса Прекрасная?
— А она уже определила, — весело сказала Дина. — Еще тогда, когда вы всё на Кряжом, как она говорит, «стояли». Вы — по-здешнему сохатый, то есть лось. Большой, сильный, пугливый и... глупый лось. И, засмеявшись, вбежала в калитку.
— А вы? — крикнул ей вдогонку Надточиев.
— Не скажу, — услышал он уже с порога дома, где маленькая женщина в меховой парке уже открывала дверь, приветствуемая из-за двери радостным, захлебывающимся лаем...
Было в этот день и много приятного: славные ребята — монтажники с Урала, рабочие, похожие на инженеров, и хлопцы Поперечного, ради приезда свердловчан из своих «спиджачков» и «штанов-махал» перелезшие в комбинезоны, и надписи на контейнерах, выведенные мелом и углем: «Привет строителям Дивноярска от рабочих Урала»... «Посылаем от души»... «Работайте на здоровье», и эти блещущие изморозью искусной шабровки сочленения машин, и дружба в отношениях между шеф-монтерами и экскаваторщиками, установившаяся, еще когда машины эти изготовлялись... Все это радовало. И все эти радости совмещались в образе худенькой женщины в мехах, растворялись в ее смехе, в блеске ее глаз. И ничего не нужно было инженеру Надточиеву, кроме смутного ощущения, что она где-то здесь, недалеко в этой массе разноплеменных людей, съехавшихся сюда со всех концов страны будить издревле дремотные края.
4
Федор Григорьевич Литвинов мог с полным правом считать себя коренным столичным жителем. Юношей приехал сын селижаровского плотогона с верховьев Волги в Москву. Здесь учился на рабфаке, здесь поступил в институт. Здесь получил диплом инженера. Здесь женился на однокурснице, комсомолке Стеше. Из московского общежития уводил он под руку свою Стешу в родильный дом на Никитской и в то же общежитие, в уголок, отгороженный для них фанерным щитом, принес своего первенца, умершего потом от простуды из-за вечно гулявших здесь сквозняков. Сюда, на улицу Чкалова, в большой серый дом, на котором сейчас висит гранитная доска, напоминающая о том, что здесь жил когда-то великий летчик, вернулся он, молодой инженер, после пуска Днепрогэса. Тут постоянно теперь жила его жена, Степанида Емельяновна. Здесь прописаны их дети — сын Валерий, тоже инженер-гидростроитель, работающий сейчас в Прибалтике, и дочь Светлана, жена дипломата, аккредитованного в Италии. В квартире хозяйничает Степанида Емельяновна. Она давно уже переквалифицировалась в бабушку, воспитывает внуков, и называется теперь квартира эта «внучья коммуна».
И все-таки, если говорить правду, Федор Григорьевич чувствовал себя в Москве гостем. Прилетев сюда по какому-нибудь делу, он со Степанидой Емельяновной и всем ее «внучиным выводком» проходил сначала «по кругу», то есть посещал любимый ими всеми Театр кукол, цирк и, если везло, ходил на дневное представление моисеевского ансамбля. Затем добывалась большая машина, и на хорошей скорости объезжали строящиеся районы Москвы. Во время этих экскурсий Литвинов радовался всем столичным обновкам, шумел не меньше внуков, иногда забегал в архитектурные мастерские, смотрел планы и проекты. «Круг» обязательно заканчивался обедом в грузинском ресторане «Арагви», причем, прежде чем войти в него, Степанида Емельяновна слышала всегда одну и ту же шутку:
— А Юрий Долгорукий был неглупый мужик: знал, на каком месте заложить Москву.
Вкусив столичных удовольствий, если, разумеется, не было срочных дел, Литвинов начинал скучать, нервничать, и хорошо постигшая его за тридцать пять лет совместной жизни жена укладывала в чемодан новые комплекты белья, которое муж, когда приходилось жить на строительстве одному, имел обыкновение занашивать до дыр...