— Ну простите, — примирительно сказал мужчина. — Вы правы. Я вам за это… Что я вам за это? Ага, вот.
Как был в трусах, он вскочил и ухватился за сук кедра. Подтянулся и бросил тело еще выше. Как белка.
— Куда вы?
— Кедр. Древо познания. Я вам достану большую ветку с шишками.
— Ребенок… Просто черт знает что… Они же, падая, оторвутся от ветки.
— У меня не оторвутся.
— Безумец, — тихо сказала она.
А он полз выше и выше. И все дальше и дальше была от него земля. А потом было так высоко, что даже страшно стало. Метров тридцать лететь до земли. И гнутся, гнутся ветки. А шишки на самых концах.
Он отодрал огромный лохматый сук с десятком лишек, тяжелый, как камень, взял его в зубы и осторожно, прижимаясь к стволу, стал спускаться.
Когда он, наконец, ступил на землю, ноги слегка дрожали от напряжения. И все тело от груди до ступней было в темных пятнах живицы.
Подал свою ношу женщине:
— Возьмите. Не надо злиться на меня.
— Сумасшедший, мальчишка. Что же теперь делать? Берите керосин, идите на речку. Отмывайте смолу. Будете среди этакого «благорастворения воздухов» керосином пахнуть, как старый примус.
— Ничего, — сказал он. — От меня в прошлой жизни всяко пахло. Работа такая.
— Идите вы с этой работой!.. Мойтесь, да пойдем гербарий собирать.
…Будрис стоял по пояс в воде, уже отмытый, и слушал, как она зовет его к костру завтракать. Серебрилась роса, резко вырисовывались в неосязаемом воздухе горы. Неподалеку от него выдра проковыляла к речке, стрелой врезалась в прозрачную воду.
И над всем было господство зари, господство солнца, господство жизни. И даже леопард был этой жизнью.
И серебристо, сладкозвучно шевелились над водой чозении. И нельзя было не думать, что, может, еще не все потеряно в жизни, что она может еще повернуться к лучшему, что есть на земле надежда.
XI. НОЧНАЯ БАЛЛАДА ТРЕВОГИ, ПРОПЕТАЯ ГОЛУБОЙ ОРДЕНСКОЙ ЛЕНТОЙ
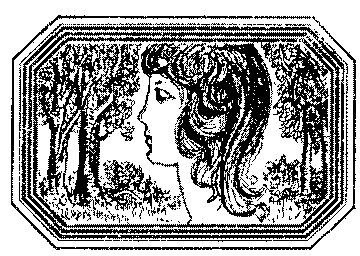
И так они ходили целый день. Тоненькая фигурка женщины. Большая фигура мужчины. Белое тело лайки. И еще где-то в отдалении, в дебрях, темная и неуловимая тень леопарда.
Цвел вокруг синий аконит — трава, что выросла из ядовитой слюны адского пса Цербера. Геракл укротил его, вызволил из пекла и повел по земле, и там, где падала слюна, вырастал аконит, похожий на синюю пасть страшного пса. И нельзя было не думать о том, как далеко зашел Геракл, раз аконит рос даже в Приморье, синими зарослями укрывая эту землю.
И мужчина шел с собакой, сильный и широкоплечий, властный и победоносный и сам похожий на Геракла. И нет-нет с удивлением, тревогой и непониманием смотрела на него женщина с чарующе изменчивым, красивым и милым лицом. А он смотрел на нее, на плавную и легкую походку, на крепкие ноги, что твердо несли ладное тело, на золотые волосы и синие, как аконит, глаза и пьянел. От аконита, от ходьбы, от того, что она становилась все более желанной, от того, что она была и будет недосягаемой и чужой.
Каждая перемена этого лица бросала его в безгранично нежное, трепетное отчаяние. Он не знал, почему так поздно признался себе в самом важном. И знал, что она не может не чувствовать замирания мужского сердца рядом с собой. Не может потому, что они как будто одни на земле. Но он знал еще и то, что не имеет права ничего сказать ей.
Над ниппонским папоротником, над диким перцем, над бешеным сплетением заманихи, аралии, даурской крушины, над жасмином и любкой мандаринской, над золотыми цветами ястребинки и сами золотые с лучах солнца гудели, суетились пчелы.
Как пьяная, кружилась голова. Можно было умереть от одной непомерности желаний. Буйствовала вокруг жизнь, и только женщина, казалось, не имела и не хотела иметь к этой жизни никакого отношения.
…И окончился день. И пришла ночь.
…Ловили бабочек. Одну простыню повесили на стену избушки, другую положили на землю. Включили рефлектор. Летели из ночи бабочки. Иногда какая-нибудь попадала в прикрытый рефлектор. И оттуда летела золотая пыльца. Потом она выбиралась из ловушки и садилась на освещенную простыню и ждала. Их было все больше. Летели, опускались на простыни тени. Женщина выбирала среди них нужные и осторожно накрывала их широким горлом морилки.
Бесконечно, до самой последней минуты он мог бы смотреть на ее движения. В каждом была ладная, благородная красивость, молодая, неистребимая сила жизни. Она чувствовала это. Она отдалялась.
Стремились к свету совки, несказанной нежности радужные перламутровки, эльцизмы Вествуди, похожие на цветы орхидей. Гигантские, фантастические по окраске, волнистые павлиноглазки-брамеи и павлиноглазки-артемиды, такие нежно-зеленые, бронзоватые, малахитовые. Большие, иногда с десертную тарелку, они трепыхали крыльями так, что звон и пение раздавались в воздухе.
Огромная бабочка села на грудь Северину и поползла к его лицу, крупная, словно в кино, даже испугаться можно было. Страдальческие выпуклые большие глаза отражали свет, горели багровым огнем.
Чудовище с фантастической, неизвестной планеты.
— Что это? — спросил удивленный Будрис.
Шелковистая, серая с серебром бабочка грустно и отверженно сидела в пятне света. Такая же безразличная, как эта женщина, от одного взгляда на которую замирало и падало сердце.
И вдруг… шелохнулись верхние крылья, разошлись, открыв нижние. И на этих нижних крыльях бесподобным, фосфорическим сиянием заиграла широкая сине-голубая полоса. Будто бабочка открыла миру самую глубокую суть свою.
— Что? — тревожно спросил Будрис.
— Голубая орденская лента, — тихо сказала она.
— Как вы, — еще тише сказал мужчина.
Женщина помолчала. И только через Несколько минут сказала:
— Не как я. Как жизнь. Та, которую вы не научились любить. Вас учили, а вы не научились, сильные люди. Куда, на что употреблять вашу грубую силу — этому вы так и не научились.
Ему было невыносимо тяжело. Он знал, что этого делать нельзя, невозможно, и все-таки сорвался. Сделал шаг, увидел испуганные глаза, обнял за узкие, хрупкие плечи, притянул к себе и припал губами к ее губам. Она не сопротивлялась, она замерла и — ему показалось — в какое-то мгновение даже ответила ему.
Мужчина видел безвольно опущенные веки, чувствовал ее всю, словно надломившуюся, и припадал к этим губам все более и более жадно, осознавая в беспамятстве, что это смертельное счастье и что это конец.
Задохнувшись, она слегка оттолкнула его и, пошатнувшись, замерла.
— Чтобы никогда больше… — после паузы глухо сказала она. — Чтобы никогда больше этого не было.
— Вы кого-то любите?
— Нет, — окончательно приходя в себя, ответила она.
— Ну вот, — у него пересохло в горле, — а я вас очень люблю.
— Так вот сразу?
— Так вот сразу, — просто сказал он. — Я знаю, для чего мне она нужна, моя… грубая сила. Для того чтобы любить, кого люблю. Чтобы защищать ее, когда это понадобится.
— Бросьте. Это не принесет вам ничего, кроме страданий. Бросьте, пока не поздно.
— Поздно, — тихо сказал он. — Зачем вы говори те такое?
— Вы знаете.
— Неужели тот злосчастный разговор? Да как же вы…
— Да. Тот разговор… Не люблю «властелинов», «покорителей», не люблю «хозяев жизни». Хозяйничаете над этой несчастной жизнью. Господа. Двуногое предначертание. Экспериментаторы над живым. Я… не могу смотреть на них… На вас.
Замолчала. Молчал и он, сброшенный в пропасть, безнадежного отчаяния.
— Извините меня, милый. Я ничего не могу дать вам. У вас и так все есть. Вы добрый, славный человек. Однако вы сильный. У вас жесткое рационалистическое дело, оно не любит колебаний. И вы такой…
— Если бы вы знали, как вы ошибаетесь!
— …и что я могу вам дать со своими бабочками и травами? Разве что любовь к жизни, какая она есть? Это вам не нужно. Вы берете и лепите, комкаете эту жизнь, нарушая законы природы…