Северин понимал, что она иной, абсолютно другой, совсем не такой, как он, человек, что им поэтому тяжело, почти невозможно понять друг друга, и все же ему стало обидно за свое дело и еще больше — за себя.
X. НОКТЮРН И АЛЬБА
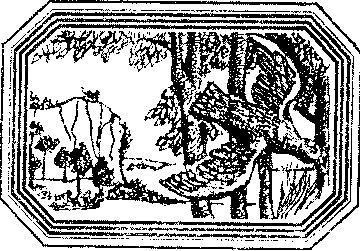
Он лежал возле костра и не спал. Под боками была сухая трава, на ногах — грубое одеяло, под головою — свернутый плащ. Рядом дремал, положив лобастую голову на толстые белоснежные лапищи, Амур. От тепла и сладких снов у него дрожали брови.
«Хорошо тебе, — подумал Будрис, — а мне паршиво. Очень».
Разговор с Гражиною взволновал его больше, чем показалось вначале. Впервые он столкнулся с таким полным отрицанием всего, чем жил до сих пор. Эта категоричность, эта отчужденность. И самое горькое, что он слышал эти слова из ее уст. Она сказала их. А ему меньше всего хотелось этого.
«Дрянь твои дела, человече. Слишком, очень уж слишком вы разные. Твоя жизнь и вправду лед на вершине. А она пережила когда-то ледники, ожидание смерти всего живого. И поэтому слишком хорошо знает цену льдам… Перистая, прозрачная, вся для солнца. Чозения. Женщина. Как только отступили льды — стала на россыпях камней, где никто еще не мог жить. И с тех времен стоит, будет стоять на форпосте жизни. И ценой этой недолгой жизни сделает бесплодный берег пригодным для Других.
Женщина. Знает цену льдам. И поэтому не поймет. Непростит. Не примирится».
…Летали над огнем огромные, как птицы, ночные бабочки. Неподвижно в чистом воздухе стояли звезды над вершинами гор.
Он знал, что женщина здесь, рядом, спит в этой заброшенной хатке. А может, и не спит, потому что ее тоже жестоко потряс разговор на берегу реки. Вот именно потому, что этот разговор был, до женщины сейчас дальше, чем до высоких, холодных звезд. Она — жизнь. И потому никогда не будет относиться к нему с доверием… Он и она — разные стороны жизни. Жизни? В общем разные полюсы всего сущего.
Ему было очень горько чувствовать это.
Ночь. Милая музыка ночи. Сонно чмокает река. Подушка из водорослей у нее под щекой. Склонились и чутко слушают сны всего живого тонкие чозении. Тревожным сном спит где-то в дебрях женьшень. Далеко в земле спит Генусь. Спят мертвые в могилах, живые — в постелях и у костров. И все-все слушают песню ночи: одни с надеждой, другие с безнадежностью. Одни — смирившись, другие — готовые зубами драться за жизнь.
В дремоте, из-под полуопущенных век он вдруг увидел, как беззвучно сел и вытянулся Амур. Шерсть на загривке поднялась, как грива, напряглись мускулы, беззвучно оскалилась пасть. И этот беззвучный оскал был страшнее, чем рык и лай.
Северин сел.
Огонь догорал. И первое, что человек увидел в темноте, за границей красноватого пятна света, за этим угасающим во тьме оазисом, были два зеленых холодных огонька. Ледяные, застывшие, неподвижные, немигающие.
Человек и зверь смотрели друг другу в глаза. Потом человек встал. И сразу из темноты, оттуда, где светили два безжалостных, чудовищно гигантских светляка, долетел горловой, приглушенный кашель и хрип.
Что-то грозно ворочалось в самой, казалось, глотке мрака, что-то перекатывалось, как далекий гром, возносилось до высокого, предательски нежного, сладострастного мурлыкания и вдруг падало чуть не на две октавы, до глухого рева, до клекота. Словно рычала сама первозданная ночь. И не было на свете ничего более первобытного, более страшного, более всевластного.
Человек сделал шаг, и второй, и третий. Во тьму. С голыми руками. Приглушенный рев будто отскочил дальше во мрак. И еще на шаг отскочил. И еще.
— Ты, маньчжурская пантера, — сказал человек. — Ты, барс. Ты, леопард, и как там еще тебя зовут. Драная кошка, что ли? А ну давай сюда!
Звуки человеческого голоса, казалось, заставили леопарда отскочить еще. Рев сменился удушливым хрипом, будто в темноте кто-то умирал.
Северин сделал еще шаг. Он не помнил себя от злости. От злости на это чудовище, что охотится на собаку, а может, и на него, от злости на темноту, от злости на эту женщину, которая, пусть даже из соображении высшей правды, перечеркнула его жизнь.
Хрип теперь бродил вокруг костра. По невидимому кругу. Бродил и постепенно отдалялся. С очевидной неохотой, с чувством смертельно оскорбленной гордости.
И человек знал, что зверь никогда не простит ему поражения.
Он подбросил в огонь сушняка. Пламя взметнулось и запрыгало багрянцем по черным лапам кедров, по светлым крыльям гигантских орехов, по открытым дверям избушки, по лицу женщины, которая стояла в проеме этих дверей.
Сумасшедший! — Голос ее сорвался. — А ружье? Ружье где?
Леопард не нападает на человека, — глухо сказал он.
Да. Никогда не нападает. Но этот, я не знаю, что он такой за зверь, этот… Ребенка украл и привык к человечине? Стал людоедом из-за старости или физического порока? Просто привык охотиться на самого беззащитного… на человека… без когтей и рогов?.. Или… или же псих, как вы.
Она шла к огню, и вид у нее был грозный.
Он ничего не сказал ей в ответ. С него было достаточно. Он лег на рядно, закутался с головой в одеяло и умолк, повернувшись к ней спиной.
…Когда он проснулся, полыхала заря. Светом охватило половину неба. Роса сплывала с обмытых, словно лакированных деревьев.
Женщина сидела, обхватив руками ноги и положив подбородок на колени. Рядом на траве лежало ружье.
— Проснулся самый галантный в поднебесной.
Трубадур! Пойте альбу. — Она сказала это без тени ночного гнева и раздражения, спокойно и насмешливо. — Они оставили на страже женщину и с чувством исполненного долга легли спать…
— Я, кажется, никого не просил караулить. Ничего не случилось. Причины для геройства и самоотверженного бдения не было.
— А может, это мне было приятно.
— Охотно верю.
Вместо иронии в глазах появилась серьезность.
Я измерила расстояние между следами. Зная его, можно приблизительно представить размеры зверя.
— Ну, — без особого интереса сказал он.
— Кошечка примерно метр семьдесят — метр восемьдесят от носика до конца хвостика. Маленькое, нежное создание. Ласковый мурлыка этак килограммов на семьдесят пять. Погладит мяконькой лапкой — и сдерет кожу до того самого места, которым думают те, кто идет на него с голыми руками.
Северин засмеялся:
— Ого! Я и не думал, что женщины способны на такие словесные соцветия.
— Кстати, может рыцарь посмотрит на мурлыку в натуре? Может, рыцарь не верит на слово и хотел бы пощупать? Охотно предоставлю ему такую возможность. Зверек уже не один час наблюдает за рыцарем и только боится, как бы не нарушить сладкий его сон ранним визитом. — Она сунула Будрису в руку полевой бинокль: — Во-он там. Будьте ласковы, посмотрите. Чуть выше и левей осыпи — скала. Так вот на ней. Страшно заинтересованный. Личная проникновенная заинтересованность жизнью и здоровьем рыцаря.
Будрис присмотрелся. А когда увидел — ахнул: огромный, весь в узлах мускулов под лоснящейся шкурой зверь стоял и смотрел, казалось, застыл неподвижно, как совершенная статуя. И Северин отметил, что Гражина не преувеличила размеров котика.
Плоский, будто специально для злой, животной мысли сотворенный череп, неподвижные изумрудные глаза, стремительной силой налитое тело.
Ржаво-желтый, охристо-оранжевый на боках и спине, белоснежный на брюхе могучий самец.
И на всей этой роскоши, на всей этой великопышности — резкие черные пятна рядами, как полосы у тигра. На боках, на лапах и голове — сплошные, крупные или мелкие. На шее, животе и спине — кольцеобразные.
— Правда, погладить хочется? — нежно и наивно сказала женщина. — Симпатичные такие розеточки пятен.
— Ух, черт! Богатство какое!
— Загадочное богатство. Не нападает на человека — и вдруг напал. Только почувствовав человека, бежит, как от смерти. На тридцать шагов к нему под красться — редкое счастье. И вдруг — рядом. И вдруг… Я не знаю, что это такое. И потому боюсь.