First_reader 4 июля 2015 17:45
388
сообщений
Пользователь+,
Мастер комментария
Здравствуйте!
Внесите, пожалуйста, корректировки:
1. http://litlife.club/bd/?b=230532 - изменить статус, на Книга закончена, но выложена только часть от целой книги.
1.1 Так же здесь, когда кликаешь по имени автора, выдается 404 ошибка. Это тот же автор, что и http://litlife.club/a/?id=95071
1.2 Эти книги должны идти под серией The Submission: 1 -http://litlife.club/bd/?b=230532, 2 - http://litlife.club/bd/?b=230538
1.3 Объединить книги в серию The Seduction: 1 - http://litlife.club/bd/?b=230534, http://litlife.club/bd/?b=230535, http://litlife.club/bd/?b=230536, http://litlife.club/bd/?b=230537.
2. Была повторно перезалита книга, в той же редакции (причем количество страниц резко изменилось, быть может дело в форматирование текста) http://litlife.club/bd/?b=248514. И теперь аннотация описана частично, должно быть как здесь
Т.е со всеми Предупреждениями от автора.
3. Какая-то беда с обложкой http://litlife.club/bd/?b=255391, добавьте, пожалуйста в нормальном виде
3.1 Здесь же, аннотацию:
Justice North is the face of New Species. Seeing him up close makes Jessie’s heart race. He’s the ultimate alpha male—big, muscular, exotically beautiful…and dangerous. Of course he’s off limits. But then the sexy man purrs and all bets are off.
Jessie Dupree is a mouthy, fiery human female who brings out the animal in Justice. She wants to show him how to relax, and he’s all for anything she wants to do, but Justice has sworn to protect his people and to take a Species mate. He’s torn between the woman he wants and the oath he’s taken.
Jessie knows a relationship between them probably won’t end well, heartbreak is inevitable. But that won’t stop her from freeing the wildness inside Justice and spending every moment she can steal wrapped around his hot body, making him roar with passion.
4. http://litlife.club/bd/?b=160862, http://litlife.club/bd/?b=255349 - удалить из жанров Эротика, там ее нет.
4.1 http://litlife.club/bd/?b=255349 - здесь еще добавить жанр Триллеры.
5. Взаимные ссылки: http://litlife.club/a/?id=90249 и http://litlife.club/a/?id=107245
5.1 http://litlife.club/a/?id=107245 - добавьте на эту страничку так же фото автора.
6. Взаимные ссылки: http://litlife.club/a/?id=107133 и http://litlife.club/a/?id=72271
6.1 http://litlife.club/a/?id=107133 и здесь добавить фото.
7. http://litlife.club/a/?id=104371 добавить фото автора.
7.1. http://litlife.club/bd/?b=255988, http://litlife.club/bd/?b=196805 - указать, что это ЛП.
Спасибо.
Внесите, пожалуйста, корректировки:
1. http://litlife.club/bd/?b=230532 - изменить статус, на Книга закончена, но выложена только часть от целой книги.
1.1 Так же здесь, когда кликаешь по имени автора, выдается 404 ошибка. Это тот же автор, что и http://litlife.club/a/?id=95071
1.2 Эти книги должны идти под серией The Submission: 1 -http://litlife.club/bd/?b=230532, 2 - http://litlife.club/bd/?b=230538
1.3 Объединить книги в серию The Seduction: 1 - http://litlife.club/bd/?b=230534, http://litlife.club/bd/?b=230535, http://litlife.club/bd/?b=230536, http://litlife.club/bd/?b=230537.
2. Была повторно перезалита книга, в той же редакции (причем количество страниц резко изменилось, быть может дело в форматирование текста) http://litlife.club/bd/?b=248514. И теперь аннотация описана частично, должно быть как здесь
Т.е со всеми Предупреждениями от автора.
3. Какая-то беда с обложкой http://litlife.club/bd/?b=255391, добавьте, пожалуйста в нормальном виде
3.1 Здесь же, аннотацию:
Justice North is the face of New Species. Seeing him up close makes Jessie’s heart race. He’s the ultimate alpha male—big, muscular, exotically beautiful…and dangerous. Of course he’s off limits. But then the sexy man purrs and all bets are off.
Jessie Dupree is a mouthy, fiery human female who brings out the animal in Justice. She wants to show him how to relax, and he’s all for anything she wants to do, but Justice has sworn to protect his people and to take a Species mate. He’s torn between the woman he wants and the oath he’s taken.
Jessie knows a relationship between them probably won’t end well, heartbreak is inevitable. But that won’t stop her from freeing the wildness inside Justice and spending every moment she can steal wrapped around his hot body, making him roar with passion.
4. http://litlife.club/bd/?b=160862, http://litlife.club/bd/?b=255349 - удалить из жанров Эротика, там ее нет.
4.1 http://litlife.club/bd/?b=255349 - здесь еще добавить жанр Триллеры.
5. Взаимные ссылки: http://litlife.club/a/?id=90249 и http://litlife.club/a/?id=107245
5.1 http://litlife.club/a/?id=107245 - добавьте на эту страничку так же фото автора.
6. Взаимные ссылки: http://litlife.club/a/?id=107133 и http://litlife.club/a/?id=72271
6.1 http://litlife.club/a/?id=107133 и здесь добавить фото.
7. http://litlife.club/a/?id=104371 добавить фото автора.
7.1. http://litlife.club/bd/?b=255988, http://litlife.club/bd/?b=196805 - указать, что это ЛП.
Спасибо.
Редактировала
First_reader
4 июля 2015 18:37
alice_solo ответила First_reader 5 июля 2015 00:25
7789
сообщений
Модератор библиотеки,
Автор
Отредактировано.)
Не за что.
Не за что.
First_reader ответила alice_solo 5 июля 2015 00:33
388
сообщений
Пользователь+,
Мастер комментария
Спасибо.
Только 4 пункт остался без изменений. По второй книге пишу уже второй раз, там и комментарии пошли в стиле "и где?", т.к содержание не соответствует жанру (по крайней мере, что касается непосредственно данных книг, а не серии в целом.)
Только 4 пункт остался без изменений. По второй книге пишу уже второй раз, там и комментарии пошли в стиле "и где?", т.к содержание не соответствует жанру (по крайней мере, что касается непосредственно данных книг, а не серии в целом.)
некрасова елена 4 июля 2015 16:43
http://litlife.club/a/?id=19704
даю ссылку на свою страницу и прошу удалить все книги но как минимум чужой рассказ,( если этот текст так можно называть) "лунный свет" И еще раз повторяю вопрос - размещение книг без моего ведома у вас законно?
даю ссылку на свою страницу и прошу удалить все книги но как минимум чужой рассказ,( если этот текст так можно называть) "лунный свет" И еще раз повторяю вопрос - размещение книг без моего ведома у вас законно?
Karmen Катерина ответила некрасова елена 5 июля 2015 06:11
13535
сообщений
Пользователь+,
Легенда библиотеки
Книги закрыты для чтения и скачивания. Произведение "Лунный свет" перенесено.
Мечта поэта 4 июля 2015 15:11
Доброго дня. Добавьте, пожалуйста, книгу "Императорская свадьба, или Невеста против" в серию "Сайлейн и Вильгельм" №1. Спасибо.
alice_solo ответила Мечта поэта 4 июля 2015 15:15
7789
сообщений
Модератор библиотеки,
Автор
В сообщении обязательно указывайте ссылку (ссылки) на объект редактирования (...)Отредактировано.)
Мечта поэта ответила alice_solo 4 июля 2015 16:01
Благодарю. Буду знать.
некрасова елена 4 июля 2015 12:19
привет модераторы, я автор которого никто не спросил можно ли размещать на сайте. Но это полбеды. У меня есть тезка елена некрасова которая пишет порно прозу, ладно бы еще сносную, но ведь говно Это уже совсем беда и теперь рассказ "Лунный свет" мирно покоится среди моих книг по воле какого-то доброго человека Удалите его пожалуйста и если можно вообще все мои книги Если ваш сайт нарушает мои авторские права, то удаляйте как можно скорее, если вы не нарушаете закон и ваш сайт зарегистрирован в какой-нибудь дикой стране где авторские права закон не учитывает, то удалите пожалуйста чужое произведение "лунный свет" с моей страницы, и удачи
Редактировала
некрасова елена
4 июля 2015 12:50
Karmen Катерина ответила некрасова елена 5 июля 2015 06:05
13535
сообщений
Пользователь+,
Легенда библиотеки
Здравствуйте!
Укажите, пожалуйста, ссылки на книги.
Укажите, пожалуйста, ссылки на книги.
lady2012 Абрамова Марина 4 июля 2015 11:57
3
сообщения
Пользователь+
Добрый вечер!
Хотела прочесть книгу, но при открытии, там набор символов, может только у меня так, посмотрите пожалуйста.
http://litlife.club/br/?b=163328&p=1
Хотела прочесть книгу, но при открытии, там набор символов, может только у меня так, посмотрите пожалуйста.
http://litlife.club/br/?b=163328&p=1
Karmen Катерина ответила lady2012 Абрамова Марина 5 июля 2015 06:04
13535
сообщений
Пользователь+,
Легенда библиотеки
Здравствуйте!
Книга удалена.
Книга удалена.
lady2012 Абрамова Марина ответила Karmen Катерина 5 июля 2015 14:13
3
сообщения
Пользователь+
Спасибо.
У меня есть эта книга файлом на компе, можно попросить ее добавить, просто я попробовала сама, но не знаю, что написать в разделе
Введите ID книги, которую хотите заменить:
Но если книги теперь нет на страничке автора, то какойid нужно писать.
У меня есть эта книга файлом на компе, можно попросить ее добавить, просто я попробовала сама, но не знаю, что написать в разделе
Введите ID книги, которую хотите заменить:
Но если книги теперь нет на страничке автора, то какойid нужно писать.
Irish Rover 4 июля 2015 02:29
http://litlife.club/bd/?b=219043
Не проза, измените в жанрах "Драматургия".
С уважением И.
Не проза, измените в жанрах "Драматургия".
С уважением И.
alice_solo ответила Irish Rover 4 июля 2015 15:12
7789
сообщений
Модератор библиотеки,
Автор
Отредактировано.)
Iван Iванов 4 июля 2015 01:26
25
сообщений
Пользователь+
Доброго времени!
Что значит книга закончена?
Автор только начал писать ее:d
http://litlife.club/bd/?b=255966
Что значит книга закончена?
Автор только начал писать ее:d
http://litlife.club/bd/?b=255966
alice_solo ответила Iван Iванов 4 июля 2015 15:12
7789
сообщений
Модератор библиотеки,
Автор
Отредактировано.)

Пользователь не найден 3 июля 2015 23:30
я хотел бы разместить в ЛитЛайфЕ эти три главы, а может быть, и всю книгу (она написана давно). Но у меня только одна личная книга, и та сборник (РУССКОЕ ВОСПРИЯТИЕ, Александров, 2006)
, ИВИН А.Н., автор, 1999 г.
, ЖЛКиС, 2012 г., отдельные очерки
Очерки из книги ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ
Очерк №7 ПО ДОРОГАМ ПОДМОСКОВЬЯ
Очерк №8 НАХАБИНО – ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА
Очерк №9 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
ПО ДОРОГАМ ПОДМОСКОВЬЯ
Зависимость от рода не всегда даже осознавалась. Отправляясь в сторону Домодедова, я искренне полагал, что развязываюсь с той самой крещеной иудейкой, о которой уже упоминал и которая через серию квартирных обменов заполучила сносную квартиру на берегу реки Рожайки, на окраине города. (Врала, скорее всего, об обращенности-то; даже если и правда, что толку: питона ведь плодами авокадо не насытишь, между тем как от стремления евреев омертвить, узаконить, орелигиозить всё живое с души воротит). С одной стороны, это так и было, и я, как сильная муха на липучке, в конце концов выдрал все четыре лапы из клейкого состава грязи и ужаса, которым околдовала меня эта дщерь Сиона. Я ездил в Домодедово и дале чуть ли не каждую неделю и таким образом, пересекая пути ее ареала, мочась на ее тропах, добровольно устремляясь навстречу ужасу, добился, как ни странно, что он поблек и отступил, а потом и вовсе забылся. Но каково же было мое удивление, когда я много позже узнал (не ставили в известность, такая родня!), что далее, у станции Барыбино, была летняя дача моей родственницы, тетки по отцу, и ее семейства, и я, сам того не ведая, блуждал по лесным тропам в тех краях вдвойне небесполезно.
Но тем, что род меня отлучил и предал, серьезность положения не исчерпывалась, потому что приходилось разбираться – территориально, аудиовизуально, дистанционно, сенсорно и моторно – одновременно и с не-родственниками, которые почему-либо сильно определяли судьбу или даже почему-либо желали мне смерти. Избавляясь, например, от женщины, с которой была горячая, но бестолковая связь, я ездил в Дмитров и окрестности, основываясь единственно на далеком, полузабытом воспоминании, что где-то там проживает ее тетка, у которой ей случалось бывать; следовательно, поприсутствовав в тех местах, я отслаиваю и в снятом виде забываю и эти родственные обязательства, хотя бы они и являлись лишь в виде возможности: связь-то закончилась давным-давно. Я выскакивал где-нибудь в Орудьево, гулял с полчаса и запрыгивал в обратную электричку, а однажды по окружной железной дороге, на ночь глядя, заехал на станцию Желтиково, купил немного еды и отправился пешком гулять по окрестным деревням. Мнилась вообще-то ночь в лесу, но лиственный подлесок был такой грязный, неприютный, радиоактивный, что от этих планов пришлось отказаться. Я послонялся в дачных деревнях Ворохобино и Новинки, попытался вскрыть две-три дачи или переночевать в недостроенных, но урожай уже был, кажется, убран, цель – послеобеденный выезд на возможно большее удаление от Москвы – достигнута, так что я пешком почесал в город Сергиев Посад. Местность была слишком густонаселенной и пересеченный автодорогами, получить достаточный заряд счастья я все равно бы не смог, а идти по вечернему шоссе в сапогах с котомкой было куда приятней. Это сейчас я называю имена этих деревень и станций, а тогда в некотором смысле даже не ведал, куда заехал, так что узнать имя приближающегося селения было даже некой шпионско-разведывательной целью: вроде как продвигаюсь и рекогносцирую. Ах, если бы было можно десантироваться где-нибудь в бассейне Индигирки или Рио-Негру, уж как я был бы счастлив, скольких трудностей и испытаний хватил бы сразу же! А пока что приходилось довольствоваться суррогатом, но и эти три-четыре километра в потемках среди леса способны пощекотать нервы засидевшемуся горожанину. Возле какой-то деревушки я встретил нескольких дачниц (одна даже с полумешком картошки), выяснил, что они ждут автобуса, в разговорах об урожае крыжовника, о погоде и политике демократов хорошо провел время, вместе с полусельским людом в раздолбанном, но отважном автобусе марки ЛиАЗ комфортабельно и бесплатно прокатился до станции жэдэ, уже за полночь был в Москве и от множества впечатлений имел глубокий сон без просыпу. Были и другие вылазки в том направлении с попытками снять-купить-украсть домик, с продуктивными лирическими шатаниями в перелесках, с расспросами ориентиров; как морская рыба заплывает в реку метать икру, так и я вырывался из этого безумного города на сельские просторы, чтобы видеть небо, траву, воду и горизонт.
Другие, тоже нередкие поездки в направлении Раменское – Воскресенск были совсем уж с непонятной целью, потому что с женщиной, которая жила в городе Дзержинске, мы были просто добрыми приятелями, и избавляться от нее вроде как не требовалось. Я крутился и вокруг Белозерской, вокруг грязного, как пруд, круглого пристанционного озера, и среди тростников в голой местности Конобеево, и шел пешком вдоль железнодорожного пути мимо станций Виноградово - Золотово - Фаустово с особым переживанием в пути филологических и ономастических изюмин этих поименований, и в Раменском с пригородами, название которого, что ни говори, а когда-то значило лес , лесная опушка . Я множество раз вываливался наугад на станциях между Крюково и Клином и шатался там до изнеможения. Я часто ездил и в направлении Апрелевки, и не потому, что в Переделкино ( Перделкино , как шутят поэты-остроумцы) существует писательский городок, а потому, что там тоже есть пути-дороги-буераки-тропы, которые ведут в неизвестном направлении с познавательной целью. Я, который больше других заявлял о ненависти к Москве, Подмосковью и всему Отечеству, за эти три года исколесил его на своих двоих больше, чем все присяжные патриоты вместе взятые (заявления о любви к отечеству происходят вообще от тех, кто мотается и живет по заграницам). И, тем не менее, вся эта местность так и не сделалась моей, я к ней просто попривык и отчасти примирился: привычка свыше нам дана. Не имея возможности (или страшась) реально и в короткий срок переселиться на любимый северо-запад, я попытался – и это понемногу получилось – реакклиматизироваться все-таки на враждебной, на не-своей территории, и здесь действительно оказалось достаточно русских местечек и бытийных био-лого-форм, которые меня с действительностью замиряли. Встречались даже совсем уж наши – от чуди, корелы и мери – названия на га и ма : Вязьма, Яхрома, Лама, Ямуга; если случалось ехать в электричке и вдруг объявляли что-нибудь этакое, я тотчас, не сомневаясь, выскакивал на платформу, даже если кругом был чахлый кустарник без всякого вида или дома-новостройки. Контролеры и проверщики билетов стали моими добрыми друзьями – настолько часто приходилось с ними препираться и объясняться по поводу бесплатного проезда. Неужели вы думаете, что если бы я имел под боком эту глупую двуногую курицу с широким захватом губ и гениталий, она позволила бы мне быть так безрассудно счастливым, свободным и любящим жизнь? Да я бы только и делал с утра до вечера, что трудился ради ее благополучия, спал у телевизора и послушно разевал рот, куда она клала бы свою стряпню; я не видел бы ничего, кроме ее постной или масляной физиономии, не слышал бы ничего, кроме ее захватнических и лукавых речей, и не вылезал бы никогда из помещений, которая эта дурища предлагала бы мне вместо прекрасного окружающего мира…
Имевшие прочность воспоминания относятся к Павелецкому и Курскому направлениям, и я попытаюсь их воспроизвести.
Местность по названиям, к счастью, не очень запомнилась, зато маршрут избрался на диво безлюдный, натурный, вдали от селитебных зон, как выражаются архитекторы, и дал стойкое, даже отстоявшееся впечатление осени, осенней грусти, природного всеохватного увядания. Помню только, что автобус рулил по витиеватой, как горная серпантина, дороге среди полей и перелесков, по облику его пассажиров и пейзажам за окном я понял, что заехал в мирный степенный сельский уголок в стороне от опасных радиоактивных изотопов урана и германия, которые циркулируют, распадаясь, по артериям столицы и пригородов, и в первой же деревне, где автобус высаживал, я вышел. Через осыпавшиеся ворота в решетках и каменных столбах вошел на территорию прекрасно запущенного парка из старых деревьев, где еще сохранились два прекрасных белокаменных дворянских особняка с напрочь облупившимся фасадом и облезлыми колоннами, со здоровым любопытством исследовал его незапертые коридоры, развороченные клозеты и комнаты, в которых на расстеленных одеялах ютились два беженца-абхазца, распространяя по всему особняку вкусный запах какого-то национального варева на основе риса, зелени и аджики (на запах и завернул), а потом двинулся куда-то прочь по тропе, заваленной красными и желтыми листьями. Справа и снизу, закрытая плотными ольхами, журчала и пованивала заплесневелая речонка с одним из местных, таких зловеще чудных названий, что обхохочешься (Злодейка, Негодяйка, Нищенка, Рвотка), но парк был хорош, воздух выстоян в конденсате осени, редок и студенист, а настроение – как у школьника, удравшего с уроков: боевое. Взгляд, хоть и не всерьез, порыскивал в поисках грибов, ноздри раздувались от аромата палых листьев, а речка внушала теплые чувства за ее мужественное стремление все-таки самоочиститься, протекая среди прибрежного хлама. Так что все было в порядке.
Здесь понадобится публицистическое отступление. Отступление, которое многим моим недоброжелателям не понравится. Но снова и снова я вынужден объясняться, чтобы быть правильно понятым. Дело в том, что мне нужно было р е д к о е пространство. Без людей. Я родился и вызревал в редком пространстве. Как та картофелина, которая одна у корня, но на два килограмма. Как та тыква, которая одна на гряде, но на двенадцать килограммов. Я был счастлив только в Ясной Поляне. Только в Ки-Уэст. Только в Фернее. Только в местечке Сегельфосс. Только на Берегу Маклая. В этом невменяемом государстве, которым управляли круглорожие воспитанники общественного откормочника, я чувствовал себя комфортно только в межзвездном пространстве на орбите, которая не пересекалась с делами плоти. На улицах Москвы я чувствовал просто физическую тесноту. Я не плыл в косяке селедок, которая из сетей тотчас поступает в засол. Я никого не презирал, ни единого человека, но остро чувствовал: вот это мое, а это не мое. Всякое помещение было не моим, прикладная идеология была не моей, книги, сочиненные дельфинами для селедок, были не моими. Открытое небо и уединение требовались для самосозерцания и покоя. Я расслаблялся только в лесу. Я понимал, что меня избивают и уничтожают; у меня крошились и разваливались зубы, в сорок лет я жевал деснами, а заказать протезы не имел средств; в пекле столицы, как живой организм в солнечной магме, я мог только вопить от боли и распадаться; я ненавидел метрополитен и телевизор как выдумки Диавола для умножения своей жатвы; мои гонители росли, как морской песок, мне месяцами никто не звонил. Уже десять лет мне пытались доказать, что я больной, или умер, или скоро умру. Как протуберанец, я пытался выбраться за край солнечной короны, из термоядерной реакции этого безумного города, но центробежные силы всякий раз втягивали меня обратно. (В те годы только-только отменяли прописку, ее заменяли приватизацией: не хватало бочкотары, такой большой улов). Это было так, как если бы из парной тебя швыряли в снег, а затем продрогшего лечили паром. Евреи, эти санитары цивилизации, уже в глаза и за глаза льстили в надежде, что я вот-вот откинусь (помня судьбы больших русских поэтов, я послал их на х.., хоть и с опозданием). Меня ковали злобные силы, чтобы показать, как закалялась сталь, кто виноват, что делать; во все стороны летела окалина, но на декоративную решетку вокруг городского особняка я все равно не годился. Была лишь робкая надежда, что удастся утишить душевные бури, успокоиться, улечься, облениться. У меня оттяпали кусок с краю, я хотел, чтобы он зарубцевался, чтобы я тянул хотя бы на восемь кило. Пусть не на двенадцать, пусть на восемь. Только бы не на килограмм.
Евреи предлагали мне деньги. Они упорно предлагали мне 29 сребренников. Я просил 31. Нет, такую сумму они дать не могут: слишком жирно будет. Тогда я послал их на х… и поехал на природу – лечиться и восстанавливаться хотя бы в три четверти прежнего объема. Стояла осень. Природа широко улыбалась и предлагала все забыть. Единственная сделка из всех, которая пришлась мне по вкусу.
В те годы министром финансов был Александр Лившиц. (Запусти козла в огород, не поможет ли собрать капусту). Хотя в кармане у меня побрякивал только медно-никелевый сплав, но на краюху хлеба и банку консервов хватило. Я купил это в сельском магазине и через территорию пустовавшего пансионата проник в осенний перелесок. Здесь протекал ручей, росла высокая пожухлая трава, а дальше пологим горбом выпирало широкое поле. В этом поле толстая женщина пасла двух белых коз, а другая рядом собирала какую-то лечебную траву: высокое зонтичное растение, пижму или дудник, который она связывала охапками. С кем бы я ни встречался в лесу или в поле, это всегда были хорошие люди, а не разбойники, против народных представлений. Я понял, что тут я в безопасности, скинул котомку под щелястой ивой у ручья, расстелил картонку, валявшуюся неподалеку, потому что было сыровато, и стал собирать хворост для костра; а вскоре он уже весело потрескивал, и можно было располагаться к ужину. Я не знаю запаха приятнее, чем дым от костра, особенно вечером в весеннем лесу (снег только что сошел, но птицы уже вовсю распевают; очень безветренно, сухо, и дым просто висит, где образовался, расслаиваясь в синие междурядья). Вскоре женщины ушли, я даже не заметил, в какую сторону. Поле, очевидно, занимали кормовой травой, которую скосили так давно, что поднялась высокая отава. Где-то там, в невидимом за перелеском конце поля, откуда проистекал ручей, дачники копали картошку и жгли ботву, потому что там поднимался сизый туман и досюда досягал ее запах. Была редкая тишина, редкая здесь, в Подмосковье, когда не слышен ни гул электричек, ни шум автомашин, ни вой вертолетов. Я тоже вел себя тихо и, когда уже совсем отужинал, заметил ежа, который, ворча и поводя носом, поднимался из зарослей сухой осенней травы от ручья к луговине Он шел так бойко, что я испугался его упустить и, когда он очутился за ивой, дотронулся до него сухой веткой. Он моментально свернулся клубком, встопорщив все свои серые шипы, и на ощупь стал как щетка, которой расчесывают овечью шерсть некоторые валяльщики. Из-за длинного коричневого носа-хоботка и коротковатых кожистых лап вид у зверька был забавный, он ворчал и немного по-кошачьи шипел, пока я трогал и перевертывал его на спину, а после того как вернулся к костру, он продолжил свое поисковое путешествие к окраине поля.
Потушив огонь, я двинулся по тропе вдоль и вверх по ручью и вскоре действительно вышел на картофельные гряды, с трех сторон окруженные лесом. Человек в солдатских галифе и защитной омоновской куртке и двое детей убирали в мешки рассыпанный по грядам картофель, их собака меня облаяла. Гряды были очень глинистые, сырые, на некоторых валялись не завязавшиеся капустные вилки и белые корневища. Я прошел мимо тлевшей кучи ботвы и по тропе мимо них углубился под полог леса. Везде было пестро от опавшей листвы, но еще больше ее сохранилось на деревьях, в этой частой короткоствольной роще из молодых кленов, берез, осин. На лужайке, усыпанной золотыми листьями, посидел на останках какого-то железного лома (по-моему, сенокосилки), покурил, вспомнив, как часто сиживал в таком вот вертячем кресле на косилках и жнейках одного вологодского колхоза; затем прошел задами дачного поселка, огороженного ячеистой металлической сеткой от бродяг, подобных мне. Дорога – две заросшие колеи, полные воды и палых листьев, - вела под полог леса, и, хотя сильно смерклось, я знал, что пойду по ней, куда бы она ни вывела. Мне бы жить в штате Теннеси во времена Майн Рида, описания которого я вижу, как если бы сам там присутствовал и действовал, кочевать под открытым небом, потому что, увы, я был и остаюсь мужчиной, в отличие от большинства этих общественных глистов; уж там бы я наверное нашел себе друга…
Через два километра дорога вывела к обочине какого-то шоссе, по которому я не пошел, а через живописную прогалызину, заросшую по краям крепкими дубками, обнаружил еще одну тропу, параллельную той, по которой только что шел, и с удовольствием от густых сумерек по ней двинулся: была мысль заночевать у костра. По-детски здоровый человек ночью в лесу на неизведанной дорожке испытывает настороженность и страх, прислушивается к шорохам, озирается, боится (как и полагается не очень вооруженному зверю, без крепких когтей, рогов и копыт), но сейчас я был еще настолько толстокож, что первобытные страхи в мое сердце не проникали; лес был обветшалой, застиранной декорацией, осыпалась его пустая картинная схема (как выразился по этому поводу один поэт). Голизна стволов и сучьев воспринималась бы честней и проще этих пестрых цыганских платьев, золотых и медных монисто. Шагнув за придорожную канавку, я собрал немного хвороста и развел небольшой костер, который горел плохо: не было тяги. Спать было негде. Есть было нечего. В Америке меня бы поняли. Там тоже не в чести бродяги и бездомные, но и самые благонамеренные граждане там проводят отпуск в палатках. Здесь же, вылетая из улья не за медом, ты становился невидимкой для всех остальных пчел. Джон Макинрой, в отличие от Домодедовского лесничества, шуганул бы меня со своей территории, а может, и собак натравил бы, но это был бы прямой разговор двух свободных людей, и ему не было бы на меня до такой степени начхать. Это густолесье вроде бы и не принадлежало никому, но по развешенным указателям становилось понятно, что сюда возят сытых и пьяных восточных чиновников с заплывшими салом глазками попариться в сауне и поохотиться на кабанов. Ничей лес, принадлежащий свиньям. Ничей художник, которого уже столько лет держат в нужде и в черном теле, не платят и не печатают, а потом, по истечении лет, какие-нибудь такие же свиные глазки издательского чиновника станут жадно пересчитывать его же денежки и класть в свой карман…
Спустя минут десять из сизой тьмы вслед за мной выросли три фигуры – двое мальчишек подростков и девчонка, спросили у меня дорогу; они явно спешили, были напуганы темнотой или сбились с пути. Я объяснил что знал, но после их ухода через пять минут поднялся и сам: заночевать можно было разве на дереве, на лабазе, но я ни одного не заметил. Эти трое с размытыми очертаниями лиц неотчетливо, протогенетически напомнили двух двоюродных братьев и сестру, какими я их помнил, когда в последний раз видел. Так что демонстрировалась некая схема взаимных поисков родственниками друг друга: ищущие спрашивали у знающего. Здесь все либо искали, либо знали. Знающие морочили ищущих, зато у ищущих было много сил. Я раскидал костер, чадящие головешки спихнул в канаву и двинулся следом. Было тревожно, но не тем молодым страхом сильного зверя в ночном лесу, а неким пантеистическим, диковинным (так блеет заблудившийся козленок с приближением волка): перепутывались какие-то важные пространственно-временные отношения, и этого нельзя было допустить. Хотелось здоровья и наполненного одиночества, а мне опять предлагали какую-то гонку на выживание. Тогда мне еще не приходило в голову, что можно просто уехать куда-нибудь и пропасть без вести. Как тот русский император, который не умер в Таганроге, а ушел в пустынь. Да, так. Свобода на Западе выражается в том, чтобы захватить участок и обосноваться на нем. Свобода на Востоке заключалась в том, чтобы вылететь из улья, сказав, что за медом, и больше туда не возвращаться. Некоторые улетали на тот же Запад, но у меня что-то не получалось. Начать с того, что было не менее пятерых охотников купить мою квартиру, но – задаром. Так у нас велись дела: всегда предполагалось, что из двух участников сделки один обязательно дурак.
Позже, обобщая опыт всех путешествий (и более ранних, о которых еще не написано), я стал догадываться, что инстинктивной их целью была не только любовь к природе и стремление к здоровью, но и стремление найти некое пространственно-временное положение, в котором было бы удобно, покойно и счастливо. Я человек деревенский до мозга костей. Даже жители сел и городков на десять-пятнадцать тысяч жителей имели передо мной неисчислимые преимущества; в частности, они умели жить в камне, не страдали оттого, что не чувствовали мягкой почвы под обувью. Скитаясь теперь по проселкам и тропам, я как бы восстанавливал координаты той единственной – моей – деревни, в которой родился, а также вологодского поселка Майклтаун (пусть будет это название). Деревня вроде бы была совсем чужая, незнакомая, - и вдруг я чувствовал, что вхожу в ту, в которой лет этак тридцать пять – сорок назад гостил у бабушки: вот заулок к магазину, вот тропа через поле к речке. Сейчас, следуя за этими тремя, я, оказавшись на краю леса, ощутил, что вхожу в свою вологодскую деревню со стороны лугов и поля. Окрестность была иная: там тропа шла посреди поля, а слева вилась изгородь вдоль речки, которую не было видно за кустами, - здесь слева шел плотный лесок без всякого намека на реку. Но впереди, как тогда, так и теперь, в ночной мгле ярко светились приветливые огоньки, и это создавало полную иллюзию, что мне двенадцать лет и я возвращаюсь домой, запозднившись с рыбалки. Нет, в том поле детства было не так голо и зелено, как в этом, стриженном, точно газон, но огни-то были настолько те же, что я в страхе остановился, решившись не входить. Заночую-ка я вон там, в перелеске, откуда видно шоссе с проходящими машинами. Было уже так темно, что я то и дело сбивался с тропы; но смеркалось еще заметнее от тучи, обволакивающей небо за спиной. Пошел мелкий дождь. Спать у кромки поля, под дождем, наблюдая, как по шоссе движутся зажженные огоньки фар, - даже Велемир Хлебников с его пресловутой наволочкой, набитой рукописями стихов, бредущий по российским проселкам в голоде и холоде гражданской войны, вряд ли чувствовал себя бесприютнее. Да, я ушел из дому и не вернусь туда, но это не такая подлость, чтобы так наказывать меня! В этих автомобилях едут люди, в этих домах спят другие, - они все за редкими исключениями покинули отчий дом, но ведь рок не гонит их скитаться пешком по дорогам Подмосковья, чтобы обрести утраченную гармонию. Я так боялся этого оживленного шоссе и этих фар, что захотелось тут же лечь на короткую щетину озими и умереть при дороге. Я ничего в этой жизни больше не понимал. Я знал только, что что-то препятствует мне войти с тылу в деревню Поливаново, сесть где-нибудь на автобус и вернуться в Москву. Москва была чудовищем, шоссе было рекой зла, я был растерянным ребенком, который стоит и мокнет под дождем и от страха не смеет плакать. У всех был свой дом (и у меня тоже, пусть холостяцкий), но казалось, что только один я на всей земле так люблю поле, горизонт, мокрый дождик, шевеленье осенней тучи над головой. Я любил э т о и отторгал все искусственное. То есть, просто все дела рук человеческих, всю цивилизацию. Наверное, так робко крадется одичавший домашний кот к жилью, в котором когда-то обитал, так бизон нюхает загородки, в которых днем побывало дойное стадо. Я знал, что я не один такой - д и к и й, но сейчас это не имело значения. Значило только, что я не люблю все это: крашеные самоходные повозки на колесах, крепкий деревянные дачи на кирпичном фундаменте под крышей из листового кровельного железа и вон тот искусственный водоем – пруд, в котором мертво поблескивает свет фонаря. Сейчас я видел их со стороны и очень трезво понимал, что они сумасшедшие. Они сумасшедшие, а я здоровый, простой и счастливый, и не надо бы мне идти к ним. Вот это особенно: не надо к ним идти.
Вместе с тем было не очень понятно, как сложится моя хорошая, правильная и мудрая жизнь, если я сейчас лягу под кустом, а завтра чуть свет, дрожащий от холода, проснусь под серым осенним небом. Ведь не выстроится же в одну ночь хрустальный дворец посередь поля, как в русской народной сказке, где я проживу долго и счастливо. Там, впереди, у н и х, была организация, было злой волей составленное движение повозок и органических тварей, и было до горечи понятно, что надо идти заискивать и кланяться этой злой воле, чтобы быть принятым в организацию и утратить самосознание. Мое самосознание и покой здесь – там подменяли целью и движением. Меня просто положат, как сборочную деталь, на конвейер шоссе, в городе автомат сгребет меня членистой клешней и опустит по эскалатору пунктов на семь под землю, там меня затолкнут в электромагнитное ложе поезда вместе с другими деталями, вытолкнут по команде, поднимут на семь пунктов вверх, переместят мимо киосков и аптеки, поднимут на три пункта над землей, втолкнут в секцию, защелкнут дверь.
Свободный человек может любить такую судьбу?
Тем не менее средь поля я размышлял недолго – по насыпному валу прошел вдоль пруда (слева открылся извив какой-то большой реки), по крутой каменистой улице поднялся вверх, подошел к застекленной веранде очень новенькой, но скромной дачи, постучал, попросил напиться. Неожиданно приветливая русская женщина позвала меня пить чай, а когда я отказался, вынесла кружку молока и три сочных бутерброда с вареной колбасой. Я даже не особенно отказывался – настолько запросто мне их вручили, лишь смутился очень. На крыльцо доверчиво вышел симпатичный пожилой человек и рассказал, как ехать. В ответ я так же доверчиво сообщил, что путешествую и в их лесничество проплутал до темноты. Сколько можно было судить по краткой беседе, это был либо простой и очень честный рабочий, либо художник на покое. Последовав его указаниям, на ходу употребляя бутерброд, я вышел к шоссе, но там стало понятно, что домой меня не тянет. А, была не была, заночую где-нибудь здесь. Я вернулся в деревню, спустился той же дорогой и пошел по тропе вдоль реки, которую за неподвижностью принял сперва за извилистый пруд.
По берегу росли редкие старые березы, но хвороста было так мало, что мой костер продержался только минут сорок: хватило, чтобы вскипятить чайник и при его свете уложить в рюкзак нехитрые припасы. Я избегал всю окрестность в поисках хоть каких-нибудь прутиков, сжег все пакеты и банки, оставленные рыбаками, обломал все нижние сучья, до которых дотянулся, но костер все-таки потух. Хоть я и изображал из себя ковбоя, но спать на голой земле, завернувшись в плед, не решился, потому что завтра следовало явиться на улицах Москвы. Знал, что если в волосах у меня будет солома и пепел костра, а плащ позеленеет от травы, не исключено, что первый же милиционер на Павелецком вокзале попросит документы, несмотря на интеллигентную внешность и совсем не испитой вид. Но спать все же хотелось. Вздрагивая от холода и нервного возбуждения, совсем не согретый чаем, я двинулся наобум в поисках подходящего ночлега. Все-таки это была река, сорная волжская река в траве, кувшинках и бензиновых разводьях. Оказывается, было всего только десять часов вечера, потому что там, где светилось городское зарево, вдруг вспыхнули огни праздничного орудийного салюта. От нечего делать я им отсюда любовался, хотя пошлостью от этих ярких букетов так и разило, как от румян городской девушки с цыплячьей кожей: напрасно пытался фейерверкер выдать анемию и бледную немочь за буйство жизни. Высоко взлетавшие шутихи лопались и рассыпались, отсвет радужных огней ложился на сонную воду, в которой под тонкой пленкой нефти что-то еще пыталось булькать: какие-то земноводные.
Рощица осталась позади, я вышел к глухому забору, окружавшему дачный поселок. Аккуратно обошел его кругом, будя собак, также аккуратно пробовал открыть висячие замки на решетках своим квартирным ключом, но нигде не нашел никакой лазейки в добросовестных кованых изделиях. Дачи выглядели мило, как городок гномов из детской книжки, но запустить камнем хотя бы в одну из них пришло на ум много позже, когда я уже брел лесом, впотьмах обдираясь о сучья: конструктивные решения часто возникают априори. Следующим было некое садовое товарищество, совсем не огороженное; оно называлось Авангард , Политехник или что-то в этом роде: черная табличка, прибитая к сосне, надпись белыми буквами. Уют и здесь был везде под замком. Под окнами одной из дач стоял синий колесный трактор Беларусь . Я с трудом забрался в кабину, но там была такая теснота и холод от некрашеной стальной обшивки, что показалось, будто тебя выставили с голой задницей в лунную полночь в поле на трескучий мороз. Как они ездят в этих колымагах, где все трясется и дребезжит?
Неподалеку стоял небольшой, объемом с мою городскую квартиру, рубленый садовый домик с окном и дверью, врезанными заподлицо, вдоль стены были сложены доски. Опять повезло, - подумал я, укладывая их поровнее вдоль теневой стороны. – Если когда-нибудь разбогатею, вся мебель у меня будет обязательно деревянная, а стулья обязательно без обивки и подушек, с прямыми спинками. Дерево – единственный материал, с которым приятно соприкасаться такому неженке, как я . Наверху вместо звезд на этот раз висел скат шиферной крыши, но зато в соседнем огороде хорошо пошумливала под ночным ветром осыпавшаяся лиственница. Под досками первое время кто-то шебуршил и возился, и я думал: только бы не змея, им бы пора уже в спячку. Ветер сюда не задувал, но его движения чувствовались сразу за углом сруба. Я повернулся набок, прижавшись спиной к шероховатой стене, и старался расслабиться, несмотря на ощутимую возню этой крысы или змеи и сухое шелестенье хвойных игол наверху. Раскладная диван-кровать, которую я каждый вечер застилал во всю ее двуспальную длину крахмальной простыней, пуховая подушка с полосатой наволочкой и ватное одеяло в пододеяльнике были просто патрицианской роскошью по сравнению с этой постелью, но зато я не знал, что ждет меня завтра.
НАХАБИНО – ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА
1
В те годы, когда я злился, очень важничал и бросал вызов правительству, мне стали назначать цену. Почему-то женщины и, чаще всего, замужние. И вместо чаемого общественного признания своих заслуг я получил море женской любви, куда тотчас стекала моя сперва, не успев даже хорошенько созреть. Я хотя женщин я на дух в те годы не переносил, они почему-то окружали меня все плотнее.
Вот в эти-то дни недовольства своим общественным статусом я получил неожиданное приглашение от одной красивой женщины вступить с ней в фиктивный брак. Получалась вообще странная вещь: я жаждал Славы, а мне упорно предлагали Бабу. Женщина мне очень понравилась, я встретился с ней, узнал, что за прописку на моей жилплощади мне предлагают тысячу долларов и, хотя был свободен, понял, что это идет вразрез с моими попытками продать квартиру и эмигрировать. В минуты опасности и душевного напряжения я бываю чрезмерно осторожен. Осторожность подвела и на сей раз: я не осмелился сразу принять такое решение судьбы, продать независимость хотя бы и за значительную для меня цену, а стал обиняками выведывать, что за птица – эта барышня. Она оказалась законной женой одного знакомого писателя, прописанной в Подмосковье и, к тому же, с ребенком. Со злобой и негодованием я понял, что, живя внутри женского организма страны под названием Россия, трудно быть мужчиной, что каждое твое простое стремление подвергается коррекции и что мужик с ребенком на руках, установленный в Берлине в Трептов-парке, - это и есть, похоже, наш отечественный символ. Очень хороший антипод со статуей Свободы. И меч у него в руках внушает уважение.
Чтобы обдумать свою очень сложную житейскую ситуацию, как-то раз солнечным апрельским днем я сел на электричку, отправлявшуюся в рижском направлении, с намерением выйти, где понравится. В борениях страстей и соблазнов я инстинктивно чувствовал, что есть состояния и бытийные постулаты куда заманчивее, чем чужая жена, замыслившая уйти от мужа, которого считает неудачником, к другому, который, по совету подруг, кажется ей более перспективным. Рельсы на довольно длинном перегоне пролегали средь маслянисто коричневых стволов и ядовито-зеленых крон сосен, мне этот бор поглянулся, и в Нахабино я вышел на платформу. Название кстати сассоциировалось с нахальством бабы ; был очень солнечный день, мусорные свалки вдоль насыпи воняли, в грязных лужах плавали оттаявшие с зимы бутылки и пивные банки, за худым тыном в приземистых убогих хижинах во дворах сушились разноцветные тряпки и, по случаю выходных, шатались сильно выпившие рабочие, но из лесу за последней сильно покосившейся изгородью виднелось пространство песочно-желтой прошлогодней травы, сквозь которую уже кое-где зеленела свежая, а из лесу, из его многоколонного зала соблазнительно тянуло ветром, настоянным на лесных талых водах и ожившей смоле хвойных деревьев. До чего гадок пригород, прости Господи, по сравнению с архангельской тайгой, сколько грязи обнаруживается в такой вот солнечный день, сколько пустых пакетов, линючих газет, банок, сколько черной копоти на коре деревьев, сколько зловония в воздухе, и все-таки закраины луж так же похрустывают ледком, на пыльных ветках так же набухают почки, в низинах почти так же стоит черная болотистая вода, которой некуда впитываться, а из нее торчат чахлые кусты и осока. Я был непредусмотрительно обут в легкие ботинки, но в лесу еще было бело от снега, и по подтаявшим тропам, покрытым голубоватой ледяной коркой, можно было пройти не запачкавшись. В глубине леса талые ручьи, пузырящиеся под ледовым хрупким панцирем, были так прозрачны, что я даже рискнул напиться, зачерпнув горстью. И едва я почувствовал запах талой мягкой и безвкусной воды, моя спесь и чужие амбиции, на меня направленные, заботы и предположения, мечты о славе и недовольство собой, - всё осталось там, в городе, а здесь, на крупитчатом рассыпчатом снежку уже становилось просто и правильно, как, наверно, просто и правильно чувствовали себя сейчас первые бутоны медуницы и лесные мыши, тощие после зимовки, норы которых подтапливает вода. Конечно, я симпатизировал этой женщине, и она казалась и, по-видимому, была так беззащитна и простодушна (в отличие от еврейки), что я уже воображал себя в роли покровителя и великодушного заступника, счастливчика и в некотором смысле пройдохи, этакого Михаила Булгакова, похитившего свою Елену, но еще глубже и полнее, чем счастливое разрешение семейных и социальных проблем, я понимал поэзию этого яркого, брызжущего солнцем дня и очень голубого неба и душу и настроения своих предков, которые почему-то упорно предпочитали социальному преуспеянию вот это простое здоровье, крестьянское, а может быть, даже звериное. И я чувствовал и слышал их призыв к возвращению в природную область самочувствия, прочь из области гордыни и спеси. Когда на обсохшей и уже обогретой солнцем поляне, откуда в просвет елок виднелось полотно железной дороги и пробегавшие электрички, я из бересты и сухих прутьев разжег костер и в сыровато-промозглом воздухе, какой стоит внутри глубокого колодца, запахло едким дымком, показалось на минуту, что я неким образом соскользнул в первобытность: прозрачный огонь трепетал, а я, рабочий-лесозаготовитель, готовился сушить возле него портянки, поджидая свою бригаду. Было непоправимое ощущение, что я соскользнул, сопровождаемый какой-то необъяснимой радостью бытия, с верхней жердочки некой иерархии на нижнюю, как канарейка в клетке, и это нисхождение произошло по моей охоте. Быть попроще оказывалось быть счастливее, хотя это опасно приближало меня к незавидному статусу родителей, здоровых и мужественных людей, валивших лес в любую погоду. Я живо представил, сидя в своей пятиметровой экологической нише в лесу под Нахабино, как здорово, как радостно было, должно быть, в настоящем северном лесу в такой вот апрельский солнечный денек, как рассаживалась вокруг костра бригада веселых работяг, скидывавших ради теплого дня свои промасленные спецовки, робы, пуловеры, разматывавших онучи, протягивавших к огню дырявые рабочие варежки и холщовые рукавицы. От мокрой одежды шел пар, открывались термосы с затхлым переслащенным чаем, который пах пробкой, доставались бутерброды, завернутые в жирную оберточную бумагу, а когда кто-нибудь подбрасывал в огонь еловых свежих лап, в небо устремлялся столб густого, пепельно-фиолетового дыма. Когда я открывал свою банку шпрот, возникло странное ощущение, что вот сейчас веселой гурьбой, с матюгами, хохотом и взвизгами баб они вывалятся из-за соседних пышных зеленых елок, с насмешками и подтруниванием обсядут меня вокруг костра, и мы славно пообедаем. Но в ту минуту и в те годы я был до такой степени один, несмотря на утомительные амуры, что такая демократическая перспектива даже в виде вероятности и мысле-образа меня сильно напугала и опять поставила перед дилеммой: либо быть сильным, либо простым и счастливым. Поверху проехал мотовоз, потом по боковой тропе вдоль рельсов, сильно вихляясь и с трудом доставая педали, - мальчишка на велосипеде, а я все глубже и беспокойнее погружался в счастливую природную стихию, которая оказалась мне генетически ближе и роднее, чем дела суетных горожан. Я не был очень уж против той роскошной и богатой жизни с палаццо, Монте-Карло, дельфинариями и особняками, которую без устали расхваливали через рекламу и телевидение, но для меня она оказывалась не только не желанна, но и прямо губительна. Я очень любил все американское и канадское и, пожалуй, французское, но чувствовал. Что это немного не то американское, которое мне нужно, а то, что впрямь соответствует и принимается, сочится тонкой струйкой со страниц какого-нибудь Берроуза, Джеймса Кервуда или Томпсона. Все же остальное, - меня не проведешь, - навязывалось любящими комфорт и удобства женщинами и женоподобными их приспешниками. Калькулятор – не мой инструмент. Поэтому там, где живут, прозябают, произрастают, часами бездумно сидят, глядя в огонь, где в вершинах елей хмуро шумит верховой ветер: -у-у-у-у, -ж-ж-ж-ж, среди перемежающихся впечатлений открытого безлюдного мира и пространства мне было очень хорошо и без красивых женщин. Усталый, утомленный, оголодавший охотник редко нуждается в женщинах, а помести его в городскую квартиру – и он изойдет похотью, потому что вожделение – это та же природная сила, не находящая прямого исхода. Город придуман, чтобы запирать силу. Город – это соковыжималка…
В тот день я просидел допоздна, спалив весь хворост, какой удалось собрать вокруг, а через неделю, так и не решив ничего ни с эмиграцией, ни с женитьбой, пришел сюда уже с рюкзаком. Ангажемент неангажированному русскому предлагался какой-то небольшой и двусмысленный, словно мать, уставшая от старика-отца, подумывала, а не уйти ли ей жить к сыну, а сын в те же самые дни уже проваливался с верхних ярусов гораздо пониже, к молодому отцу, шутил с его товарищами по бригаде, смолил дешевый табак, выстругивал свистульки из молодого побега березы и досадовал только о том, что перевоплощение неполно и недостаточно. За прошедшую неделю его до такой степени истамливала тревога и конструктивное беспокойство о будущем, что среди этих некрасивых елок он пребывал не только в настоящем времени, но и прямо в детстве. Неполнота вчувствования заключалась в том, что к этому эмоциональному комфорту, к этой душевной радости примешивались страх и даже паника по поводу того, что дела-то не деланы, проблемы-то не решены, достигнутые-то высоты сдаются, а оценщики, озабоченные женщины, небось, думают о нем и прикидывают варианты. Да, я испытывал страх на этом аукционе и с детской пугливостью обращался к покровительству природы, газ самомнения улетучивался там из меня, как из откупоренной бутылки, и из шипучего муската образовывалось кислое виноградное вино, а потом натуральный виноградный сок. Потому что пить все это и пользоваться мною собиралась женщина, и мне это ужасно не нравилось. Тем более что горы рукописей лежали неопубликованные.
Однако в этот, во второй раз бор под Нахабино мне не показался привлекательным, я вернулся на платформу и проехал до города Истра. Возможно, впрочем, что это были Снегири или даже совсем другое направление, но только в чудесный майский вечер я долго шел пешком по шоссе в каком-то городке, пронырнул под железнодорожным мостом, миновал старый микрорайон (в каждом городке есть такой оазис трехэтажных кирпичных домов, когда архитекторы еще позволяли себе почудить с балконами и окнами, а иногда лепили и эркеры), и, топая наобум, как всегда любил в новых странствиях, завернул налево – на выпуклый мостик через паводковую речку и остановился полюбоваться окрестностями. Речка вилась по очень зеленой низкой луговине, чуть подтопив прибрежные, еще голые ветлы, вода кофейного цвета уже входила в русло, а по ней, которую, казалось, можно было перепрыгнуть, хорошо разбежавшись, проплывали на узкой байдарке-двойке два молодых охломона, раздетые до трусов и теннисных рубашек. Вечер был теплый, тихий, благоуханный, и лица спортсменов были самодовольнее некуда. Я едва удержался, чтобы не плюнуть им на головы сверху, когда они, важно пошевеливая веслами, проплывали под мостом: они некоторым образом напоминали, что блаженствовать умею не только я, и радость подпортили. Я двинулся по старой, давно не асфальтированной дороге вдоль речки; в старицах стояла вода, щеперились кусты, окутанные еще не листьями, а как бы прозрачным газом, дымчатым флером готовых проклюнуться почек. Луговое низинное место было так уютно, деревянные дачные домики с новыми палисадами так привлекательны, что захотелось здесь обосноваться, и представилась некая по-маниловски соблазнительная картина проживания с земляной работой в саду, с ловлей пескарей на удочку в этой извилистой речке. Можно было сделать выбор сельской или уездной жизни постоянным, но и в этом случае трудности оформления обмена, переезда представлялись мне непреодолимыми. Почему я такой? Почему? Почему одной половине моего существа хочется быть счастливым, а другой – успешным и уважаемым? Почему никак их не примирить настолько, чтобы хоть сделать выбор? А ведь какое место: развилки дорог разбегаются в разных направлениях, беззвучно протекает река, и вся лощина укрыта застоявшимся воздухом, очарована тишиной майского протяженного вечера. Сюда бы охотно стекались деньги – такое здесь низкое, покатое и выемчатое место, сюда бы стекались воды и тропы…
За последними столбами и сараями я свернул и углубился в лес, еловый, запущенный и на редкость хмурый, так что даже пожалел, что не остался в Нахабино: старые ели хоть и росли вразброд, но под ними было сумрачно и пусто; болотистый ручей едва протекал среди жирной моховины и коряг, зато заболачивал все вокруг на полугектаре; вокруг было очень сыро, не встречалось никакого топлива. Наконец я уперся в рухнувшую старую сосну, которая на добрых двух десятках метров топорщила здоровенные сухие звонкие суки и была так широка, что на ней по предварительным прикидкам можно было устроиться поспать, чтобы не валяться на голой земле (одеяла я взять не догадался); хворосту было навалом и, окруженный сзади высоким сумрачным ельником, а спереди – ручьем и открытыми прогалинами кочек, весенней воды и отдельных невзрачных елок, я расчистил несколько квадратных метров для костра, повесил рюкзак, как на вешалку, на стоявший торчмя сосновый сук и расположился сыграть в индейца лесов и прерий. Или в архангельского мужика на своей пожне. Как бы там ни было, скоро запылал хороший жаркий костер, какой бывает только из просохшего смолья, а сумерки вокруг стали сразу лиловыми, плотными. Возникло задорное ощущение затерянности и тех ночных страхов, которые, когда горит костер, придвигаются вплотную; городские дети любят байки вокруг огня во время пионерских походов, а деревенские – те просто целыми летами живут такого рода приключениями. Вокруг меня, правда, не было маленьких собеседников, готовых трепаться всю ночь насчет покойников и привидений на кладбищах, но страх был тот самый, когда-то во время таких ночевок испытанный, и ночь такая же настороженная, и недостаток самого необходимого: оказалось, что не взял соль и консервный нож, что нет стакана, а нож тупой. Вдобавок, костер по неопытности получился такой могучий, на три метра выбрасывавший языки пламени, что я боялся подпалить соседние деревья, боялся, что придут незваные гости. Но очень скоро, не успел поужинать молоком и хлебом, обнаружились другие напасти: расположиться вздремнуть на сосновом стволе не удавалось – сосна все-таки не секвойя: узка; с одного бока меня опалял костер, с другого под рубашку заползала ночная сырость – прямо с земли. Я очень понял в ту ночь, как чувствует себя зверь в берлоге, индеец в вигваме, эвенк в чуме, собака под забором, как безотрадно, должно быть, было на земле, как сыро, грязно, противно, как кололась хвоя и какой гнилью разило от трухлявых колод, сколько сырости во влажном весеннем мху, как бессердечен настороженный шепот игол наверху при слабых дуновениях ночного ветра, как безотрадна черная глубь неба, испещренная разномигающими маковыми зернами звезд, чуждых. Далеких, загадочных, прекрасных, немых, как то, первоначальное, с чем я подхожу в третьему тысячелетию от Рождества Христова, темное, мистическое, страшное, даже жуткое, звериное, с приметами и отзвуками преисподней, способно восстать и обдать тебя ужасом, стоит только провести такой безрассудный романтический эксперимент – переночевать в лесу. Когда сходишь с ума, то, как выразительно показал Франсиско Гойя в своих каприччиос, наружу вылезает именно это, из далекого детства человечества, сметая все перегородки цивилизованных привычек и правил. На меня вдруг пахнуло из тьмы веков таким ужасом, что в середине ночи я поклялся впредь не возвращаться к натуре так сразу. Сон разума порождает чудовищ, но эти чудовища не более, чем впечатления тех, кто заваливался спать в берлогах и ямах, кто в апрельскую ночь трясся от холода, угнездившись миллион лет назад под такой же вот сосной и не умея еще обогреться у огня. О том черном непроглядном страшном существовании могли бы поведать только одомашненные звери, которые и теперь так же равнодушно дремлют, стоя без огня в своих загородках. Страх небытия длился, правда, всего четверть часа, когда отчего-то показалось, что я просто окружен страшилищами, и я лихорадочно подбрасывал в костер все новые и новые ветки, точно в этом было единственное спасение. Казалось, что из кромешной тьмы за стеной света этому монстру достаточно протянуть мохнатую лапу и подцепить меня, но потом страх оставил меня так же внезапно, как и навалился. Уже через минуту-другую я осмеливался на ощупь выбираться за пределы освещенности, чтобы поискать еще хворосту. То, чего казалось навалом, кончилось уже к середине ночи, и весь ее остаток я только и делал, что чертыхаясь бродил по окрестностям, натыкаясь на деревья и спотыкаясь о валежник, и собирал, где мог, пищу для своего огня. Даже подремать как следует не удалось, хотя возле пня рядышком с огнем была уютная впадина и, положив под голову рюкзак, можно было не без удобства подремать там, как в шезлонге. Но костер – такое капризное существо, что только бывалые звероловы да те же индейцы умеют его поддерживать, как подобает. Меня же огонь измотал: сожрав все обломанные сучья и хворост со всего леса поблизости, стал тухнуть и, хоть я держал про запас груду хвороста, вскоре сник до нескольких живых углей. Казалось, ночи не будет конца, хотя это была короткая майская ночь. Зато впервые после многих лет бессмысленной городской суматохи я ощутил п р о т я ж е н н о с т ь времени, его плотность, вещественность и неделимость: оно не только не шло, как думают все, у кого есть часы, а оно просто-напросто стояло, чернильное и неподвижное. Никуда оно не шло, не торопилось, оно было, стояло, недвижной скалой, и тем обличало в неразумии нас, идиотов, измеряющих его этими своими штуковинами с циферблатом. Вещество же и плотность времени появились от трудностей и тягот: я всю ночь обламывал сучки, сучки, черт его дери, поддерживал огонь и ждал окончания ночи. И это в тридцати-сорока верстах от огромного города, в котором в эти минуты в мягких перинах покоились сотни тысяч жирных телес моих сограждан, вполне приемлющих блага цивилизации. Зато я теперь знал, как худо было бедняге питекантропу и что такое борьба за огонь не по Рони-старшему. А в нескольких тихих промежутках этой борьбы сверху мне подмигивали лукавые звезды, отчего я чувствовал себя немножко не от мира сего. Когда, наконец, опять полиловело и можно было уже не заботиться об огне, умудренный опытом полевой жизни, с пятнами липучей серы на ладонях, немного разбитый и как будто себе самому новый и непонятный (утратилась на время от беспрерывного труда возможность себя-осознания), я стал тихий, как рабочий с похмелья, как ребенок после плача, как собака после голодной ночи в сырой конуре; и это мне нравилось. Право, мне нравилось, что я поглупел.
Сразу за опушкой, откуда опять завиднелись старицы и кусты лозняка, облитые прозрачно-зеленой кипенью, потянуло холодком рассвета и трогательно, точно запозднившийся влюбленный поворачивал деревянную щеколду калитки, несколько раз щелкнул соловей.
11
Ныне, когда пишу это, похоже, заканчивается ретардационный период в моей жизни и начинается проективный. Удалось себя чуть подремонтировать счастливыми воспоминаниями давно прошедших дней, и, словно чувствуя, что меня не угробить, напрочь исчезли из моей судьбы любительницы трахнуться и перепихнуться, а за ними, предварительно навесив дверь, и плотник. По утрам я опять бодр, а это не самый плохой признак. В сорок, после первого звонка, большинство из нас, если не сходит в могилу, округляется в талии и уже не гонит во весь опор. Сердце у меня сейчас раза полтора больше нормы (по объему), но надеюсь, что с помощью аспирина, водки, а также замерзания зимой и потения летом я приведу его в прежние границы. С мозгом хуже, потому что там потери и убытки противу прежнего, но, в конце концов, набить его свежими впечатлениями и знаниями опять-таки вполне возможно.
Не все события плюсквамперфекта воспроизводятся последовательно: на иных табу, другие сам сберегаю: ведь нельзя же до дна вычерпывать колодец, из которого пьешь. Но в процессе сего исследования я понял несколько важных истин. Оказалось, что мир стоит, а человек в нем пребывает. Оказалось, что неизменность мест пребывания в их прежней красоте и состоянии хорошо закрепляет и заземляет человека. Оказалось, что пройти прежними хожалыми дорогами и тропами – это хорошо. Я бы многое мог добавить, если бы не чувствовал, что, аккумулируя, например, тарногские и тотемские аудио- и видеоряды, обездоливаю родителей: это и их достояние тоже. Оказалось – странная вещь! – что с самой первой минуты ты с о с в о и м и. Они лишь трансформируются и мутируют, возрождаются и дегенерируют, но в разных обличиях они твои хранители и супротивники. Оказалось, наконец, что когда нечем жить и отовсюду теснят, хорошо посидеть на крылечке рядом с парнем скотником, у которого в ногах плетеная торба скошенной отавы, и поговорить за жизнь, - так, должно быть, крепят надутый аэростат к какому-нибудь валуну покрупнее из моренных гряд. И – Господи ты Боже мой! – как хочется на него походить, чтобы поступки диктовало не дум высокое стремленье, а некормленый теленок, рассохшееся косьевище, распоряжение бригадира, незалитый лизол. Его часы не ломаются, потому что они у него соприродные. Но и его, и мое существование, и моих родителей, и ваше ведь оправдываются же чем-то, Господи!
111
Несколько раз по весне или в первых числах июня я выезжал на берег Истры в Павловскую Слободу, причем от Нахабино шел обычно пешком через Исаково и Лобаново: железнодорожная ветка туда отчего-то не работала. Иногда, впрочем, подъезжал на маршрутном такси и выходил на окраине Слободы. Ид был замечательный, шоссе шло под уклон. Я сворачивал к вельяминовским дачам и, пройдя сотню метров, в виду деревни, через рощу возвращался чуть вспять и спускался в крутую долину Истры.
Что слобода-то Павловская – в сознании вертелось, но если бы мне тогда сказали, что я таскаюсь сюда, потому что некие богатенькие московские родственники, чье отчество – Павловичи, вот уже лет двадцать со мной не знаются, я бы такой интерпретации не поверил: слишком отдавало паранойей. Тогда объяснялось проще. Скорее уж я связывал сей факт с фамилией той красотки, что предлагала мне фиктивный брак. Навязчивость смысловая была отдаленной. Реальнее была природа, излучина Истры в этом месте и рыболовный азарт.
Крутой травянистый склон повсеместно пестрел фиолетовым цветом медуницы. Волоча за собой только что срубленную березку для удилища и несколько ломких палок сушняка, я сбегал по нему к старому кострищу в десяти метрах от воды и, предвкушая, готовился. Удилище получалось толстое, как палка, с костром я возился по часу, но все же удавалось и порыбачить, и погреться. Правда, по берегам то и дело шастали рыбаки, а по реке, еще полой, проплывали байдарочники, но из быстрых светлых глубин неожиданно чистой реки вылавливалось до полудюжины мелочи. Не покидало чувство, что удовольствие я краду, что оно преступно, что в Москве полно дел, что с разведенной писательской женой отношения сложились бы небезнадежно. Стремительная вода уносила поплавок, не клевало часами, но я прилежно ходил по берегу и в каждой заводи подозревал добычу. Костер, сожрав пищу, тух, найти сушняк становилось все труднее. В конце концов я с раздражением понимал, что и рыбу как подобает не ловлю, потому что, в отличие от экипированных мордатых и вполпьяна местных рыбарей, чудной горожанин в ботинках, и костер удовольствия не приносит, потому что уже за полсотни метров в ольшаник приходится бегать. И рыбу, как ни смешно, мне становилось жалко, я ее тотчас отпускал обратно. Развлечение понарошку. Сохранялось томление по некогда любимому занятию, да река здесь выглядела очень уж славно, напоминая тарногские. Нельзя было не сознаться, что я приезжал только пожрать у костра и, может быть, - возникало такое ощущение, - тропу Павловичей-дачников п е р е т о п т а т ь (не знаю, понятно ли, что хочу сказать?). Где-то здесь кто-то из этих богачей строился. Кто-то из какой-то московской родни сюда ездил окучивать картошку, закидывать блесну, трескать на солнышке лук с хлебом – и меня волочил за собою, не будучи даже знаком. В Вельяминове в сараюхах жили какие-то грязные-прегрязные карпатские либо же черкесские рабочие либо же торгаши (они и дачи строили, и выгружали из багажника автомашины пойло, жвачки, сигареты), и их кипучая торгово-строительная функциональная предприимчивость интриговала меня, как тараканьи бега в кунсткамере; отрицательной оценки и вражды не было, но разбирало любопытство: чего это они, как свинтусы, живут в этом хлеву, да еще и аренду платят? Косогор был крутой, сухой, березовый, в тонких штиблетах я нигде не почерпывал грязи. Однажды на берегу я даже очень мило заночевал – почти (снялся с бивуака в два часа ночи), но Истра словно издевалась: рыбу я в ней изловил только в первый приезд, намотав лесу на палку и выковыряв из-под коровьей лепехи нескольких червей. Мастерил из подручного материала, работал с кондачка, ел а ля фуршет. Совсем как в городе. И река, черт ее возьми, неслась точно ее избивали, точно ее разбирали на водопроводные нужды уже в Красногорске. Там в ту пору проживала одна из успешных спермовыжималок, и мысль о ней тоже витала, когда я терпеливо закидывал уду в реку.
Редактировалось
3 июля 2015 23:32
Karmen Катерина ответила Пользователь не найден 5 июля 2015 06:03
13535
сообщений
Пользователь+,
Легенда библиотеки
Вы можете разместить свои книги на сайте, воспользовавшись функцией: http://litlife.club/BookAddV2
Irish Rover 3 июля 2015 23:27
http://litlife.club/bd/?b=104984
http://litlife.club/bd/?b=20108
http://litlife.club/bd/?b=110971
http://litlife.club/bd/?b=156584
Добавить в серию " Библиотека поэта. Большая серия".
http://litlife.club/bd/?b=175367
Заменить обложку:

http://litlife.club/bd/?b=110971 - у этой Издатель, место и год издания почему-то в одной строчке.
http://litlife.club/bd/?b=173528
Исправить серию: "Библиотека поэта. Малая серия".
http://litlife.club/bd/?b=101820
http://litlife.club/bd/?b=108089
"Новая библиотека поэта. Большая серия", причём у последней неправильное заглавие, следует "Стихотворения и поэмы. Т. 1".
http://litlife.club/bd/?b=108089
http://litlife.club/bd/?b=175216
" Новая библиотека поэта. Малая серия".
http://litlife.club/bd/?b=52480
Добавить серию: "Литературные памятники" и обложку:
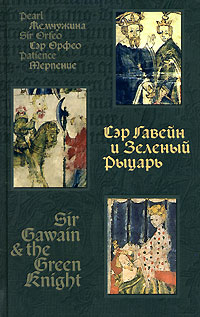
И добавьте:
Издательство: "Наука".
Место издания: Москва.
Год издания 2003.
С уважением И.
http://litlife.club/bd/?b=20108
http://litlife.club/bd/?b=110971
http://litlife.club/bd/?b=156584
Добавить в серию " Библиотека поэта. Большая серия".
http://litlife.club/bd/?b=175367
Заменить обложку:

http://litlife.club/bd/?b=110971 - у этой Издатель, место и год издания почему-то в одной строчке.
http://litlife.club/bd/?b=173528
Исправить серию: "Библиотека поэта. Малая серия".
http://litlife.club/bd/?b=101820
http://litlife.club/bd/?b=108089
"Новая библиотека поэта. Большая серия", причём у последней неправильное заглавие, следует "Стихотворения и поэмы. Т. 1".
http://litlife.club/bd/?b=108089
http://litlife.club/bd/?b=175216
" Новая библиотека поэта. Малая серия".
http://litlife.club/bd/?b=52480
Добавить серию: "Литературные памятники" и обложку:

И добавьте:
Издательство: "Наука".
Место издания: Москва.
Год издания 2003.
С уважением И.
alice_solo ответила Irish Rover 4 июля 2015 15:11
7789
сообщений
Модератор библиотеки,
Автор
Отредактировано.))
Karmen Катерина ответила Нестор Адекватов 3 июля 2015 15:32
13535
сообщений
Пользователь+,
Легенда библиотеки
Отредактировано. )))








alice_solo 16 марта 2019 22:20
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛА САЙТА - https://litlife.club/forums/4
НАБЛЮДАЮТСЯ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ САЙТА, ОШИБКИ, ГЛЮКИ? - https://litlife.club/topics/56
АККАУНТ. ПРОБЛЕМЫ/УДАЛЕНИЕ С САЙТА - https://litlife.club/topics/469?page=1
ПОВТОРЫ КНИГ - https://litlife.club/topics/211
РАЗЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЛИТЛАЙФУ - https://litlife.club/topics/82
ПРОДАЖА-ПОКУПКА КНИГ - https://litlife.club/topics/3006
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДЕВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ - https://litlife.club/faq