Для того, чтобы как-то оправдать появление путейца Чкалова в Ванкувере, было решено объявить о том, что он якобы прилетел туда самолетом, причем через Северный полюс.
Ну что в те далекие времена представлял собой Северный полюс? В те времена Северный полюс представлял собой совершенно пустынную местность, и о какой-либо посадке на полюсе с целью дозаправки горючим не могло быть и речи. «Пусть перелет будет беспосадочным!»— решили тогда ученые.

Северный полюс в 30-е годы.
Ученым возражали летчики (а именно капитан Байдуков и майор Беляев). «Не существует самолета, — говорили они, — который мог бы без дозаправки преодолеть такое огромное расстояние». «Мы построим такой самолет», — обещали ученые.
И вот, спустя полтора года, самолет АНТ был действительно построен и готов к эксплуатации, но от идеи перелета, как такового, пришлось, увы, отказаться, так как над Северным полюсом и в непосредственной близости от него температура воздуха превышала все допустимые нормы (минус 80 градусов по Цельсию).
26 октября 1935 года на закрытом заседании коллегии Минморфлота СССР было принято решение доставить самолет АНТ в Ванкувер морем с помощью ледокола «Кронштадт». Управлять ледоколом должен был капитан 3-го ранга Алексей Константинович Лазо. Вот что он писал в своем дневнике: «Мне было поручено осуществить буксировку самолета АНТ с Байдуковым и Беляевым на борту из Архангельска в Ванкувер. Взлетно-посадочная полоса Ванкуверского аэропорта, как известно, находится в непосредственной близости от берега. Задание наше было достаточно сложным: доставить самолет в Ванкувер ночью и своими силами установить его на взлетно-посадочную полосу. Валерий Чкалов ждал неподалеку в условленном месте и по определенному сигналу (2 сильных хлопка в ладоши) должен был незаметно подойти к самолету, войти в кабину и присоединиться там к Байдукову и Беляеву.
В Архангельске многие скептики опасались, что самолет, будучи спущенным на воду, сразу же пойдет ко дну. Не скрою, были такие опасения и у меня.<…>
И вот, наконец, настал день отплытия. АНТ величественно стоял на пирсе, а Байдуков и Беляев спокойно занимали свои места в кабине для пилотов. Я стоял за штурвалом ледокола…
Наступил долгожданный миг.
«Поехали!» — крикнул Байдуков и махнул мне рукой. «Полный вперед!» — скомандовал я. Ледокол тронулся, натянулся буксировочный трос и самолет, покатившись по причалу, упал в воду. Скрывшись в пучине океана, АНТ моментально исчез из виду. Люди в тревоге переглядывались… Наконец, раздался вздох облегчения — самолет всплыл на поверхность и устремился вслед за ледоколом…»[5] «Я, — вспоминает А.К. Лазо, — обрадованный, обернулся к корме, в сторону самолета, и увидел Беляева — тот высунулся из кабины, на лице его сияла улыбка. Я крикнул:
— Все в порядке?
— Да, — ответил Беляев, — я слышу, как волны океана разбиваются о борт самолета».
Американская общественность, пресса бурно встретили появление русских летчиков. Газеты пестрили заголовками об уникальном перелете, и вскоре имя Валерия Чкалова было уже у всех на устах. Впрочем, эти исторические материалы вам, уважаемые читатели, уже хорошо известны.
Я СВОИХ ПРОВОЖАЮ ПИТОМЦЕВ
Первые шаги
Мы долго колебались, прежде чем предложить вниманию читателей этот текст: слишком уж в непривычном свете предстают здесь перед нами люди и события, всем, казалось бы, хорошо известные.
И все же, думается, публикация фрагментов воспоминаний космонавта Сергея Федорова (1928–1996) представляет не только и не столько академический интерес; мы надеемся, что эти немногочисленные страницы с интересом будут прочитаны всеми любителями отечественной истории.
Сергей Михайлович Федоров родился в 1928 году в городе Гжатске Смоленской области (ныне Гагарин). Отец Сергея, школьный учитель физики, буквально бредил небом, привив любовь к авиации и мальчику. Михаил Андреевич Федоров в начале 30-х годов создал в школе кружок воздухоплавания.
«У него была мечта, — вспоминает Сергей, — построить свой собственный самолет. Отец сумел увлечь этой идеей нескольких моих одноклассников. Витя Круглов раздобыл где-то чертежи аэроплана Можайского, мы просиживали над ними целыми вечерами. Днем отец пропадал в мастерской. Хотя чертежи были очень старыми, все мы верили в успех. Хорошо помню раннее утро 14 апреля 1938 года. Мне совсем недавно исполнилось 10 лет. Отец подошел ко мне, еще спящему, и тронул за плечо: «Все, сегодня лечу в Москву!» Он решил посвятить свой перелет 20-летию Осоавиахима. Отец вышел, тихонько притворив за собой дверь. Недобрые предчувствия охватили меня. Через несколько минут со стороны поля послышался рокот запускаемого двигателя и сразу вслед за этим я услышал крик. Кричал отец…
Я бежал по полю, еще не понимая, что произошло. Отец лежал рядом с самолетом, от его плеча наискосок вниз тянулся кровавый шрам, как от удара шашкой.
— Пропеллер, — прохрипел он. — Надо было… быть осторожнее…»
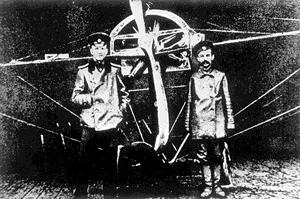
М.А. Федоров со своим другом, известным летчиком Нестеровым у аэроплана
Впечатления детства, одновременно светлые и трагические, во многом предопределили жизненный путь Сергея Федорова. В 1946 году он поступает в Смоленское летное училище и четыре года спустя с блеском его заканчивает. Молодого летчика направляют в Москву, где Сергей встречается с самим Василием Сталиным. По рекомендации Сталина его направляют служить на Тушинский аэродром: Федоров отвечает за организацию ежегодных воздушных парадов. «В то время, — вспоминает он, — я очень увлекался фигурами высшего пилотажа. Особенно мне удавался штопор».
Неудивительно, что в начале 1955 года, когда в обстановке строжайшей секретности формировался первый отряд космонавтов, Сергей Федоров был зачислен в него одним из первых.
«Нас было четверо, — вспоминает Федоров, — Владимир Иващенко, Вальдас Мацкявичус, Андрей Мишин и я. Готовили нас в Жуковском, мы жили в строго охраняемом корпусе, каждый в отдельной комнате. Хотя генеральный конструктор Виктор Павлович Королев и не приветствовал наше общение друг с другом (он даже присвоил нам номера, чтобы, как он шутил, не перепутать), я, тем не менее, коротко сошелся с Андреем Мишиным. У Мишина был четвертый номер, у меня — третий. Вечерами, в недолгие минуты отдыха после изнурительных тренировок, мы вместе пили чай в маленькой столовой. Мишин любил пить чай вприкуску и громко хрустел сахаром.
— А ты знаешь, кто у нас на самом деле «космонавт № 1»? — спросил он меня однажды, осторожно оглядываясь по сторонам.
— Иващенко, кто же еще? — пожал я плечами.
— А вот и нет, — таинственно сказал Мишин. — Этого человека зовут Гагарин, Юлий Гагарин. Он сейчас за Уралом, в Свердловске-15. Не спрашивай, как я узнал, но это точно. Завтра покажу тебе фотографию.
Действительно, следующим вечером Мишин, когда мы остались одни, осторожно достал из бумажника небольших размеров фотографию и протянул ее мне. Я ничего не понял — это была моя фотография!
— Нет, сказал Мишин, — это Гагарин, тот самый. Вы с ним земляки. Мне Королев говорил, что ты маленький был очень похож на его мать.
Я еще раз внимательно посмотрел на фотографию. Действительно, сходство было поразительное, хотя в глаза сразу бросалось одно различие: у меня с детства на мочке левого уха остался шрам от отцовской сабли; на фотографии голова Гагарина была повернута слегка в профиль, у него никакого шрама не было.
На следующий день я около часа просидел у кабинета Королева, ожидая аудиенции. Наконец, он пригласил меня в кабинет, но сесть не предложил, всем своим видом давая понять, что у него мало времени. Я не утерпел:
— Виктор Павлович, хотел спросить у вас про Юлия Гагарина…
Королев исподлобья посмотрел на меня, тяжело вздохнул.
— Не понимаю, о чем это вы, Сергей, — сказал он, — мне это имя ровным счетом ни о чем не говорит.
— Но… — начал я.
— Вы свободны, третий, — холодно произнес он, выпроваживая меня из кабинета».
5
Как выяснилось впоследствии, самолет АНТ лишь назывался «цельнометаллическим», а на самом деле изнутри был абсолютно полым.