После ужина перешли к другим удовольствиям. Во время оргии испражнялись прямо на пол, наложили много куч, в том числе – на сосцы женщин. Герцог перед всеми съел кал Дюкло, в то время как красавица обсасывала его тело. Руки развратника блуждали по ее телу. Хобот Герцога выбросил обильную сперму. Кюрваль повторил то же с Шамвиль. Потом все отправились спать.
Семнадцатый день
Ужасная антипатия Председателя по отношению к Констанс усиливалась с каждым днем. По установленному Дюрсе расписанию он провел с ней ночь. И на следующий день она должна были перейти к Дюрсе. Утром Председатель разразился жалобами в адрес Констанс: «Из-за ее состояния к ней нельзя применить обычные меры наказания, – жаловался он. – А то еще выкинет свой плод до срока! Но, черт возьми, надо все-таки найти средство наказать эту шлюху за все ее глупости!»
Сейчас мы увидим, до чего додумался этот извращенный развратник. И за что? Только за то, что вместо того, чтобы повернутся к нему задом, несчастная повернулась передом. Вот это-то «непослушание» ей и вменялось в вину! Но что было хуже всего, так это то, что она отрицала факты. Она утверждала, что Председатель клевещет на нее, что он ищет ее погибели и всякий раз, как она спит с ним, изобретает что-нибудь подобное.
Так как законы на этот счет были чисто формальными, а женщин здесь вообще не слушали, то совет четырех стал решать, как наказать эту женщину, сейчас или в будущем, чтобы при этом не повредить плод. Решили, что за каждую провинность она должна будет съедать кусок кала.
Кюрваль потребовал, чтобы наказание было приведено в исполнение немедленно. Все это одобрили. В это время все находились на завтраке в аппартаментах девушек. Потребовали, чтобы виновную привели. Председатель сделал по-большому в центре комнаты, Констанс приказали встать на четвереньки и проглотить то, что сделал этот жестокий человек. Никакого сочувствия к бедной женщине – эти люди были словно выкованы из бронзы! Она упала на колени, умоляла простить ее, но ничто не могло их разжалобить. Они от души забавлялись, глядя на мучения молодой женщины, которая никак не могла преодолеть отвращения, но обязана была подчиниться. Наконец, содрогаясь, она проглотила кусочек – хорошо еще, что не надо было доедать до конца! Все четверо героев, присутствовавшие при этой встрече, потребовали, чтобы четыре девушки гладили и возбуждали их члены. Кюрваль, возбудившийся больше других, воскликнул, что Огюстин делает это превосходно. Чувствуя, что вот-вот кончит, он позвал Констанс, которая недавно закончила свой грустный завтрак: «Иди сюда, шлюха, – крикнул он ей. – Когда едят рыбу, ее поливают белым соусом. Вот твой соус, получай!» Бедняжке пришлось получить еще и это: Кюрваль спустил шлюз и разрядился прямо в рот несчастной супруге Герцога, а сам при этом съел свежий и деликатный кал маленькой Огюстин.
Потом инспекция пошла проверять горшки. Дюрсе изучал кал в горшке Огюстин. Девушка извинялась, что была не совсем здорова. «Нет, – сказал Дюрсе, ковыряя кал. – При несварении желудка другое качество стула, а ваш вполне здоровый.» Он достал ужасную тетрадь и сделал пометку под именем этого небесного создания, невзирая на ее слезы.
Все остальное было в порядке, но в комнате мальчиков Зеламир, который сделал по-большому перед оргией и которому не велели вытирать задний проход, вытер-таки его без разрешения. Это было тяжким преступлением. Зеламир был также занесен в список. Несмотря на это, Дюрсе поцеловал его в зад и пососал немного.
Потом пошли в часовню, где сидели на стульчаках два «работяги», Алина, Фанни, Тереза и Шамвиль. Герцог взял в рот кал Фанни и съел его, Епископ – одного из «работяг», Дюрсе – Шамвиль, а Председатель – Алины,
Сцена с Констанс разогрела головы, потому что уже давно никто не позволял себе таких дерзких выходок утром.
За обедом говорили о морали. Герцог сказал, что не понимает, почему законы во Франции так свирепствуют против разврата: ведь разврат, занимая граждан, отвлекает их от крамолы и революций.
Епископ возразил, что законы направлены не против разврата как такового, а против его крайних выражений. Начался спор, и Герцог доказал, что в разврате не было ни одной крайности, опасной для правительства, а, следовательно, не только жестоко, но и абсурдно фрондировать против таких пустяков. Беседа оказала на всех должное воздействие. Герцог, наполовину пьяный, удалился в объятиях с Зефиром и целый час целовал взасос этого красивого мальчика, в то время как Геракл, воспользовавшись ситуацией, вонзил в задний проход Герцога свое огромное орудие. Тот и не заметил! Его приятели развлекались, кто как мог. Потом пришло время пить кофе. Так как было уже сделано немало глупостей, за кофе все прошло спокойно. И Дюкло, воссевшая на свой трон, поджидала компанию, чтобы продолжить свои рассказ:
«В моем доме произошла потеря, которую я не могла пережить во многих отношениях. Речь идет об Эжени; я любила ее больше всех; из-за ее поразительной услужливости она была мне необходима при всех операциях, приносивших деньги. И вот эту Эжени у меня выкрали самым странным способом. Один слуга, которому заплатили большую сумму денег, пришел к ней – отвезти за город на ужин, за который она получит семь или восемь луидоров. Меня не было дома, когда это произошло, а то бы я, конечно, не разрешила ей уехать с неизвестным человеком. Но он обратился к ней непосредственно, и она согласилась… Больше я ее никогда не видела…»
«И не увидишь, – вмешалась Ла Дегранж. – Партия, которую ей предложили, была последней в ее жизни. И я расскажу, когда придет мой час, как она была разыграна с этой красивой девушкой.»
«О да, это была редкая красавица! – вздохнула Дюкло. – Ей было двадцать лет. Лицо тонкое и удивительно приятное…»
«И к тому же самое красивое тело в Париже! – добавила Ла Дегранж. – Но все эти достоинства обернулись для нее бедой. Однако, продолжайте, не будем останавливаться на частностях.»
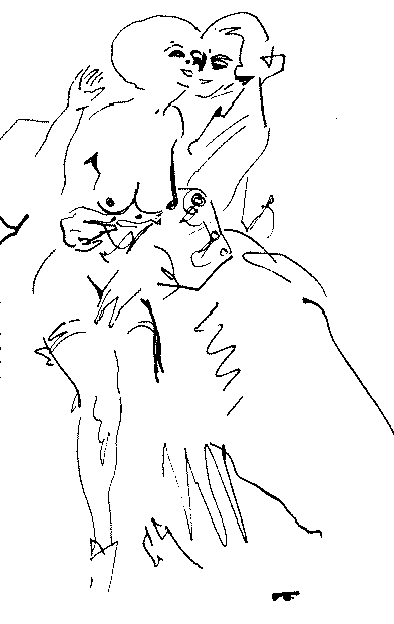
«Ее заменила Люсиль, – возобновила рассказ Дюкло, – и в моем сердце, и в моей постели, но не в работе с клиентами, так как для этого ей надо было обладать не только услужливостью, но и покорностью. Как бы то ни было, я ей доверила вскоре после этого настоятеля монастыря Бенедиктинов, который приходил ко мне время от времени и которым обычно занималась Эжени.
После того, как этот святой отец вылизал ей зад и долго взасос целовал в губы, надо было легонько постегать его розгами по члену – и он разрядится; ничего больше не требовалось, только розги. Его высшим удовольствием было видеть, как девушка ударами розг выбивала из его члена капли спермы, которые вылетали к воздух.
На другой день я сама обслуживала клиента, которому потребовалось не менее ста ударов розг по заду. Перед этим он лизал мой задний проход и тер рукой свой член.
Третий клиент снова пришел ко мне через некоторое время. Этот любил церемонии: о его приходе я была уведомлена за восемь дней. Мне было поставлено условие, чтобы все это время я не мыла ни одной части своего тела и особенно – задний проход, не чистила зубы и не полоскала рот и чтобы в момент уведомления я положила в горшок с мочой и калом по крайней мере три связки розг. Спустя восемь дней он пришел. Это был старый таможенный чиновник, человек с большим достатком, вдовец без детей, который часто проводил время подобным образом. Первым делом он выяснил, точно ли я выполнила его инструкцию о воздержании от умывания. Я заверила его, что все было выполнено в точном соответствии с его желанием. Чтобы в этом убедиться, он начал с поцелуя в губы, который, без сомнения, его удовлетворил; после этого член поднялся наверх. (Если бы при этом поцелуе он почувствовал, что я пользовалась зубной пастой, то не начал бы своей партии!)
Итак, он смотрит на розги в горшке, куда я их положила, потом требует, чтобы я разделась, и начинает нюхать каждую часть моего тела, особенно те места, которые запретил мне мыть. Так как я выполнила все точно, он нашел там тот аромат, которого жаждал: я увидела, как он воспламенился и воскликнул: «Да, да, как раз так, как я хочу!» Я начала обрабатывать ему зад. Кожа на нем была коричневого цвета и очень жесткая. После того, как я натерла этот натруженный зад, я достала из горшка розги и, не вытирая их, начала стегать со всей силой. Он даже не шевельнулся. Мои удары не могли сокрушить эту неприступную цитадель. После первой атаки я засунула три пальца в его задний проход и начала изо всех сил его раздирать. Но его кожа была бесчувственной: он даже не вздрогнул. После двух первых церемоний я легла на кровать животом вниз, он встал на колени, раздвинул мне ноги и языком начал лизать один за другим оба моих прохода, которые после принятых мною по его приказу мер не были слишком благоуханными. После того, как он насосался вдоволь, я вновь начала его стегать, потом он снова, стоя на коленях, лизал меня. И так продолжалось, по меньшей мере, пятнадцать раз. Наконец, освоив хорошо свою роль и внимательно следя за состоянием его пушки, я время от времени бросала на него взгляды, не трогая его. Во время очередного лизания, когда он стоял на коленях, я выпустила ему под нос кусочек кала. Он отшатнулся, сказал, что я нахалка и – разрядился, сам взяв в руки свое оружие и испуская вопли, которые можно было слышать с улицы, несмотря на все принятые мною предосторожности. Мой кусочек кала упал на пол. Он только понюхал его, в рот не взял и ни разу не дотронулся. Он получил не менее двухсот ударов розгами и так привык к ним, что от всей процедуры на его коже остался лишь едва заметный след.»