Глава 4. Антон
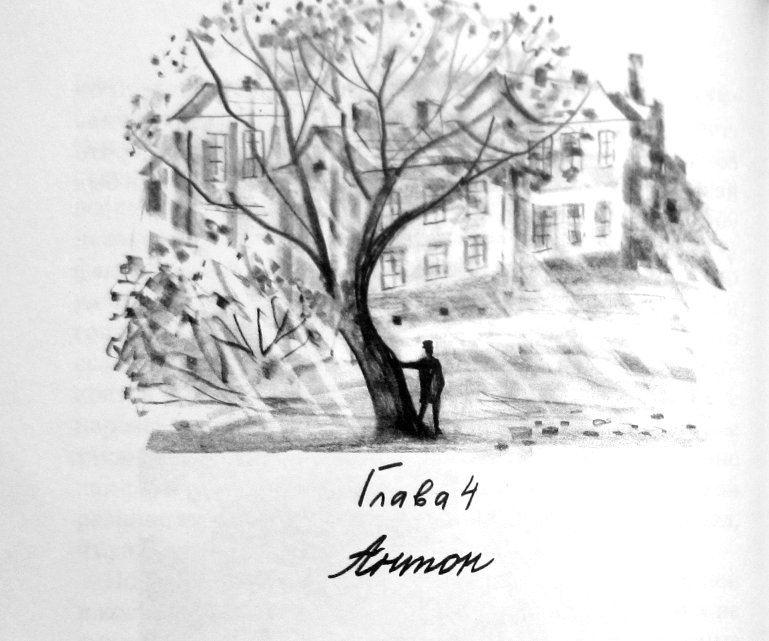
Знает ли Антон, что я наполовину еврей? И если да, то почему же он тем не менее так хочет меня усыновить? Наверно, все-таки не знает, думал я с надеждой. Иначе это было бы выше моего разумения. Ведь после немцев Антон больше всего ненавидел евреев. И сразу же за ними — коммунистов. Впрочем, иногда он их менял местами — сначала коммунистов, потом евреев. И именно он растил мальчика, чей отец был одновременно и тем и другим? Нет, это невозможно!
После того как мама рассказала мне об отце, я первые часы был целиком занят собой, своим вопросом вопросов: кто я сейчас, если мой отец вдруг оказался евреем? И поэтому я даже не вспоминал об Антоне. О его месте во всей этой истории я начал думать лишь в школе. И сразу же испытал очередное потрясение. До самого конца занятий я уже не мог думать ни о чем другом, кроме одного — знает Антон об отце или не знает? Я пытался вспомнить, рассказывала ли мама что-нибудь такое, из чего можно было бы сделать тот или иной вывод. Может быть, она все-таки не рассказала ему? Разве не достаточно с него, что мой отец был коммунистом? Нет, не может быть, чтобы Антон знал! Он не женился бы на гражданской жене еврея и вдобавок еще и коммуниста. Это казалось мне невозможным, и я всем сердцем надеялся, что я прав. Но потом я припомнил всю честность и искренность мамы, и во мне вспыхнули страшные опасения. Может быть, он действительно до сих пор не знал, но теперь, после этой истории с еврейскими деньгами, она ему расскажет?! И я тотчас начал сочинять в уме какое-нибудь магическое заклинание, которое убедило бы маму ничего Антону не рассказывать. И тогда мне пришла в голову новая возможность: пусть даже он знает, но если мама не расскажет ему, что я тоже знаю, у нас все останется по-прежнему, как будто ничего не произошло.
Я постарался прийти домой пораньше и стал с нетерпением ждать маму, моля Бога, чтобы она пришла до Антона. И как только она появилась, я сразу же ее спросил.
Антон знал.
И тогда я стал просить маму, буквально умолять ее, чтобы она больше ничего ему не рассказывала. И не из-за денег. Как раз это мне казалось наименее существенным. Насчет денег я рассуждал просто: если Антон узнает об их существовании, он не позволит маме отдать их нуждающемуся еврею. И может быть, даже накажет меня за всю эту историю. Нет, я уговаривал маму не ради денег, а ради того, чтобы с его стороны в нашей семье все оставалось так, как было до вчерашнего дня. Достаточно того, что Антон знает об отце и что это заставляет меня самого изменить отношение к нему.
Я говорил и говорил. Мама долго молчала. Но потом наконец согласилась.
И теперь у меня возникла тяжелая проблема: мне на самом деле нужно было изменить отношение к Антону. Я уже не мог ненавидеть его, как раньше. Более того — я не мог его, как раньше, презирать и чувствовать свое превосходство над ним.
До этого я действительно его ненавидел — ив основном из-за мамы. Но по-настоящему я стал ненавидеть Антона, когда узнал, чем они с мамой занимаются по ночам. Об этом позаботился парень из нашего двора, сын наших соседей. Он был на несколько лет старше меня, и он объяснил мне все в деталях. Помню, мы стояли в темноте на лестничной площадке и умолкали каждый раз, когда кто- нибудь проходил мимо. Пока не вышла его мама, которой соседи донесли, что мы с ее сыном что-то там «варим» под лестницей, а может, и курим тайком.
По сей день у меня стоит перед глазами довольная ухмылка, которая расплылась на его лице, когда он увидел мои потрясение, обиду и недоверие. Он был большой, а я был маленький. И он снова и снова сообщал мне свою гнусную «правду»: твой отец вставляет… знаешь что? В эту минуту я думал, что он самый большой грешник в мире и что еще миг — и с неба ударит молния и убьет его на месте.
Но ничего такого не произошло. И тогда я начал спорить. Я сказал, что этого не может быть, потому что это грех. Он ответил, что я прав, это действительно грех, он так и называется «первородный грех». Но это единственный способ сделать детей. А потом согрешившие идут и исповедуются, и ксендз говорит им, сколько молитв нужно произнести, чтобы искупить этот грех. Тогда я пылко воскликнул, что кто угодно, только не моя мама. Они с Антоном не делают ничего подобного. Факт, ведь у них нет детей.
Но мне ничего не помогло. Потому что до того, как он объяснил мне «правду», я не обращал внимания на эту сторону жизни. Наверно, наигравшись в футбол или набегавшись по улицам, я засыпал сразу же, едва касался головой подушки. Но теперь, когда он мне рассказал, я начал прислушиваться. И после того как один раз услышал все, начал затыкать себе уши подушкой, едва только слышал, что «это» начинается.
А через какое-то время я уже сам, вместе с Вацеком и Янеком, вбивал эту правду в уши малышей. Точно в том виде, в каком сам ее получил.
И ненавидел Антона.
Однажды я увидел, как он бреет маме ноги своей опасной бритвой. Мама смертельно боялась орудовать этой бритвой. По правде говоря, я тоже. Кажется, тогда уже изобрели безопасную бритву, но Антон презирал такие игрушки. Я вошел вечером в душевую, когда они думали, что я уже сплю, и увидел, как он это делает.
А теперь я вдруг не мог заставить себя ненавидеть его всей душой, как прежде, потому что теперь я знал, что все это время ему было известно, что мой отец еврей. Этот факт поставил меня в тяжелейшее положение. И мне кажется, что именно с него в моей жизни начался важный поворот. Я начал применять свои мозги.
До тех пор мне доставляло большое удовольствие думать об Антоне как об этаком «примитиве» — мусорщике из рода потомственных мусорщиков. Ведь в его семье и вправду уже несколько поколений мужчин занимались сбором мусора. Я понимаю, эту работу тоже кто-то должен делать. Но мне нравилось презирать его за это и вообще за все, что я способен был в нем увидеть. Например, за его имя. Я любил имя моей мамы — Анеля-Барбара, урожденная Реймонт. Кстати, мой дедушка со стороны мамы на самом деле был родственником этого известного польского писателя. И я не выносил фамилию Антона, которая приклеилась к маме после их брака. Помню, меня всякий раз передергивало, когда какая-нибудь соседка или кто-нибудь в лавке обращался к моей маме со словами: «Пани Скорупа». И меня всегда обижало, что она не сохранила имя моего отца. Могла бы называться Яворская-Скорупа, если уж на то пошло. Или даже Реймонт-Яворская-Скорупа, если бы захотела.
Мама называла Антона по имени. Но когда она хотела его подразнить, то говорила «Скорупа» или даже «пан Скорупа». И тогда он сердился и называл ее «пани Реймонт», произнося это с такой интонацией, словно хотел сказать: «Вы только посмотрите на эту благородную цацу».
И ко всему этому он и впрямь был человек простой, даже невежественный — с трудом окончил четыре класса начальной школы и не читал книг. И тем не менее моя мама вышла за него замуж, и этого я никогда не мог понять. Мне тогда было уже пять лет. И я помню, как я шел с ними на венчание в костел.
Долгое время я отказывался называть его по имени. Я обращался к нему «пан Антон». Я часто прислушивался к тому, о чем они говорят в своей комнате, и не раз слышал, как он пытается убедить маму, чтобы она повлияла на меня в этом вопросе. Вначале он настойчиво требовал, чтобы она приказала мне называть его «отцом». Потом перестал упоминать это слово и заговорил об усыновлении. Но тогда я уже был постарше, и когда мама попыталась заговорить со мной об этом, я на три дня убежал из дома к дедушке и бабушке. Я все время думал, что, если бы отец узнал обо всем этом, он перевернулся бы в могиле. В конце концов Антон отступился, и я лишь иногда слышал, как он говорит маме, что это позор: он растит меня с пятилетнего возраста, а я обращаюсь к нему как к чужому. Ему стыдно перед друзьями и соседями, а также перед учителями в моем классе. Неужели он это заслужил?! И тем не менее я продолжал обращаться к нему «пан Антон» или же старался обратиться так, чтобы вообще не назвать его имя.
Когда я был моложе, еще до войны, я вдобавок дерзил ему и обзывал разными обидными прозвищами вроде «вонючки» — из-за его работы в туннелях канализации. Это продолжалось до тех пор, пока он не отлупил меня как следует и я ушел от него — стыдно признаться — с красным задом. Мама тогда очень на него рассердилась. Она никогда не поднимала на меня руку. И я помню, как он ответил ей, что если бы он был моим настоящим отцом, то отхлестал бы меня ремнем и вообще воспитывал бы меня как следует. Так, как воспитывали его. И что, разве из него получился такой уж плохой человек?! Но мама все равно запретила ему меня лупить, что бы я ни натворил, а в обмен обещала, что я больше никогда не буду его дразнить.
А потом она провела со мной долгую воспитательную беседу. Она взяла меня на прогулку по берегу Вислы. Это было одно из любимых моих удовольствий — ходить с ней в лунные ночи вдоль берега реки. Мы обычно шли очень медленно, и я держал ее за руку, а если дело было зимой, она надевала старую меховую шубу, которую я любил гладить, и так мы шли, и снег скрипел под нашими ногами. И все вокруг было серебряным, точно в заколдованном лесу.
В этот раз мама рассказала мне, как случилось, что она вышла замуж за Антона.

Она познакомилась с ним, когда отца арестовали. Она приходила к тюрьме в надежде его увидеть, а Антон тогда торговал там мороженым, разнося его в большом ящике, висевшем на плече. В летние дни, в часы, свободные от работы, он таким образом подрабатывал пару-другую злотых в придачу к той зарплате, которую получал от муниципалитета за работу в канализации. И когда мама сидела на тротуаре напротив тюрьмы, он неизменно подходил к ней, давал ей бесплатно мороженое и всячески пытался утешить. Возможно, я не объективен, но и по оставшимся фотографиям можно увидеть, какой она была красивой. И не просто красивой — она вызывала у людей доверие и теплые чувства. И даже когда ему стало известно, что ее муж коммунист, а потом — что он еще и еврей и что она растит незаконного сына, Антон не оставил ее. А ведь остальные от нее отступились. Причем именно из-за того, что она прижила сына в грехе. О том, что отец еврей, не знал никто, кроме Антона. Но в те времена большинство людей у нас были религиозными и не могли простить, что она не венчалась в костеле. По их мнению, она жила в грехе. Другие времена, другие взгляды…