– Сквозь твои кости и кожу проступают карты, за то, что ты чувствовал и каким ты был.

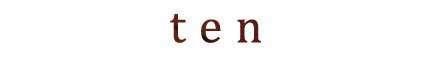
– Сквозь твои кости и кожу проступают карты, за то, что ты чувствовал и каким ты был.
—Кристофер Пойндекстер

– Мне жаль тебя, как Дьявола.
Мои кости дрожат, и кандалы соскальзывают с потных запястий. Этого недостаточно, чтобы заглушить далекий, хриплый голос мамы.
– Ты пострадаешь за то, что вызвала его демонов, малышка.
Я закрываю глаза, сильно сжимаю их и качаю головой. Убирайся, мама. Тебе здесь не место.
– Я положу этому конец. Но только после того, как твоя душа очистится.
Два часа. Старинные часы в другом конце комнаты говорят мне, что я провисела на этих цепях два долгих часа.
– Ты ведешь себя как животное, и с тобой будут обращаться соответственно.
Колени стучат друг о друга, по ним пробегает дрожь. Голова кружится, я взмокла от пота, и ничего не видела, и не слышала с тех пор, как Райф ушел. Пока это воспоминание, двенадцатилетней давности, не вернулось ко мне. Все еще отдающееся эхом в ушах, оно не оставляет меня в покое.
– Но, мама, я...
– Не смей называть меня так.
Стуча зубами от резкого ветра, я попыталась снова.
– Мне ж-жаль, Агнес. Я просто...
– Посмотри на это.
Мама всегда говорила только шепотом и рычала, но ее приглушенные команды пугали меня больше, чем если бы она повысила голос.
Я переступила с ноги на ногу, чувствуя, как пальцы ног глубже погружаются в свежую грязь. Затем опустила взгляд на картину, которая стояла на земле между нами. Испещренная жидкими линиями красного и черного, краска смешалась, когда дождь забрызгал мой альбом для рисования.
– Встреться со своими извращенными демонами лицом к лицу, как ты заставляешь это делать меня, - приказала она, - потому что это последний раз, когда ты вызываешь их в моем доме.
– Но я говорю тебе, ма.. Агнес. Я не призывала никаких...
Мамина рука поднялась так быстро, что я вздрогнула. Она застыла в воздухе, пальцы были в нескольких сантиметрах от моей щеки, похоже, одновременно со мной вспомнив, что она никогда меня не била. Она вообще никогда ко мне не прикасалась. Однажды я подслушала, как она просила Фрэнки держаться на расстоянии, потому что я могу быть заразной.
После напряженного момента молчания, прерываемого стуком дождя, мама опустила руку. Я знала, что лучше не возражать. Я ответила. Но это было самое большее, что она говорила со мной за семь месяцев, и мое сердце наполнилось глупым трепещущим ощущением, очень похожим на надежду.
Надежда, что, может быть, она послушает.
Может быть, она попытается понять, что темные образы запутали мой мозг до боли, пока у меня не осталось выбора, кроме как выпустить их.
Что, возможно, однажды она посмотрит на меня так же, как на Фрэнки. Не то чтобы она любила ее — я не знала, способна ли мама на такие эмоции, — но даже когда она была разочарована в старшей сестре, даже когда она наказывала нас, мама смотрела на нее с искрой, которую я не могла определить. Искрой, которая, напомнила я себе, никогда не вспыхнет для меня.
Признаю, я не облегчила ей задачу. Фрэнки всегда была очень похожа на нее, со светлыми волосами и карими глазами. И из-за того, как сломано и запутанно работает мой мозг, я начала задаваться вопросом, не передалось ли мне от папы нечто большее, чем просто его внешность.
– Ты животное, Эмми Мэй?
Я шмыгнула носом и покачала головой.
– Нет, Агнес.
– Ты бешеная? Ты бездомная? Разве о тебе не заботились как о подобающем ребенке под крышей, защищенной Господом?
– Нет, Агнес. Обо мне хорошо заботились.
– Тогда внимательно посмотри на себя и спроси, что за человек мог придумать такие ужасы?
Я опустила голову, чувствуя, как рыдание поднимается к горлу.
– Я не знаю, мама. Плохой человек?
Она сделала шаг вперед и, обойдя меня, направилась к заброшенной собачьей будке.
– Я скажу тебе, кто, — спокойно сказала она. — Дитя дьявола. Испорченный зверь. И как таковой, – я ахнула, когда что-то холодное и твердое сжалось вокруг моей шеи, – ты будешь наказана.
Протянув руку дрожащими пальцами, я коснулась ржавого ошейника, который теперь был застегнут на моем горле, затем мой взгляд проследовал за толстым металлом к собачьей будке, где он был закреплен через дыру в крыше. Я почувствовала, как каждая капля крови отхлынула от моего лица.
– Давай посмотрим, может ли твое искусство, — она выплюнула это слово, — спасти тебя сейчас.
В то время это было самое большое количество слов, которые она сказала мне за семь месяцев. После той ночи они стали самым большим, что она сказала с тех пор. Полагаю, было легче притвориться, что меня не существует, чем изгонять своих демонов.
Теперь, когда незнакомые цепи врезаются в мои запястья, а подушечки ног покалывает от боли, я вспоминаю, что мне тоже намного легче, когда мной пренебрегают.
Быстрый стук каблуков поворачивает мою голову в сторону открытой двери. Блондинка-секретарша размытым пятном проходит мимо, направляясь по коридору.
– Подожди! — Мой голос хриплый, он разрушает стенки пересохшего горла. – П-пожалуйста. Вернись.
Цокот приостанавливается, затем возобновляется, на этот раз ближе. Появившаяся в дверях секретарша кажется знакомой. Я прищуриваюсь и понимаю, что вчера она ставила розы на один из столов.
Я опускаю взгляд на ее темно-красный шарф. Цвет идентичен носовому платку, который Грифф носит в переднем кармане.
Просто идеально.
– Ты звала меня? - спросила она.
Она наклоняет голову и хмурит брови, но в остальном никак не реагирует при виде меня, прикованной голой к люстре, и у моих ног все еще мерцает огонь. Просто еще один день в резиденции Мэтьюзз.
Я дергаю за цепи и морщусь, когда они трутся о ободранную кожу.
– Ты можешь снять меня отсюда?
Ее взгляд опускается на мой золотой шарф, затем возвращается к лицу. Она качает головой.
– Мне жаль. Только твой хозяин может принять это решение.
После паузы она спрашивает:
– Не хочешь ли стакан воды?
Я сдерживаю рычание. Каждый сантиметр моего тела пульсирует, скуля от изнеможения. Моя голова падает на грудь. Ком в горле кричит принять ее предложение, но я этого не делаю. Я и так достаточно беспомощна, чтобы кому-то приходилось кормить меня с ложечки.
Проходит секунда, затем ее шаги затихают в направлении выхода. Мой взгляд скользит вниз, вниз, к оранжевым языкам пламени, которые танцуют с живостью, которой я завидую. Расплавленный воск стекает по бокам свечей, как слезинки.
Я теряю счет секундам, минутам, часам. Перестаю бороться с болью, сковывающей мышцы, с онемением, охватившим пальцы.
Чем дольше я смотрю на гипнотизирующий свет свечей, тем тяжелее становятся веки. Запястья ослабевают в наручниках, колени подгибаются, и мне кажется, я слышу мягкий стук свечи, падающей на скатерть, вдыхаю горький запах чего-то горящего. Но море черноты, клубящееся вокруг разума, так успокаивает, что я не могу заставить себя беспокоиться.

Голоса — приглушенные и женские — достигают барабанных перепонок. Что-то мягкое касается лодыжки. Я шевелюсь, ерзаю на месте, и жгучая боль пронзает запястья. Дальше запястий, до кончиков пальцев, я ничего не чувствую. Абсолютно ничего. Слабый звук звяканья металла напоминает, что я прикована. Стон срывается с моих сомкнутых губ.
Мои ресницы распахиваются, и столовая расплывается в фокусе.
Волосы Обри щекочут мою босую ступню, и я съеживаюсь от жжения, которое пронзает пальцы ног. Ее хватка крепче сжимает мою лодыжку, удерживая ее неподвижной. Она поднимает на меня взгляд и прижимает палец к губам, затем продолжает наматывать марлевую повязку на мою ногу. Мои брови сводятся вместе, жжение все еще пульсирует под кожей.
В поле зрения появляется белокурая секретарша, с которой мы встречались ранее, когда она обходит стол. Она аккуратно собирает то, что осталось от скатерти, и выбрасывает это в мешок для мусора. Свечей не видно, но в воздухе витает слабый запах гари.
Райф сидит в дальнем правом углу комнаты, прижав к уху сотовый телефон. Его губы шевелятся, он говорит слишком тихо, чтобы я могла расслышать, но его глаза задерживаются на белой повязке на моей ноге. В конце концов, он замечает, что я смотрю на него.
Он улыбается.
Желудок переворачивается.
Он поправляет свой телефон, затем отводит взгляд, продолжая говорить. Я все еще наблюдаю за ним. Моим новым ‘хозяином’. Когда я садилась в самолет до Нью-Йорка, я была уверена, что мои будущие работодатели хотели секса, и они хотели этого на своих условиях, за закрытыми дверьми.
Одеть меня, составить список дел и поставить розы на их столы — это все равно секс. Непростая задача, но легкая.
Так почему же мне кажется, что они хотят от меня чего-то совершенно другого?