VIII
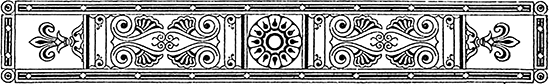
Проходила зима тихо, однообразно; время лечило раны, и все мы оправлялись от тяжкой потери нашей, и все больше и больше сердца наши, наши надежды и думы принадлежали брату. Меньшой брат, после смерти отца, был отослан в Петербург (по малолетству) и отдан в военную школу, по его настоятельной просьбе. От него весьма часто приходили известия — он рвался в военную службу и писал с восторгом об успехах и воинских подвигах брата, о славе и торжествах нашей армии. Но матушка вся отдалась старшему сыну, жила мыслию о нем, читала и перечитывала его письма и, получив одно, ждала другого. Наступил февраль. Однажды нам привезли письмо от брата. Оно было длинное, радостное, и начиналось как-то восторженно, будто он, взяв перо в руки, не помнил себя от радости. Оно сохранилось у меня до сей поры, и я прилагаю его:
«Милая матушка, дорогая бабушка, добрые тети и все вы, мои милые, любимые сестра и сестренки, и добрая моя няня! Если бы вы знали какою радостию бьется мое сердце и как оно хочет выпрыгнуть! Оно летит к вам. Конец нашим бедам и вашему горю. Наши храбрые войска везде одерживают победы, отовсюду идут торжественно и победоносно в столицу врагов. Несомненно, что на днях Париж будет взят, но мы его не разграбим, не сожжем, но заключим славный мир и дадим великодушно не токмо благоденствие всей Европе, но и самую Францию избавим от тирании и зверства корсиканского выходца, Бонапарта. Он побит везде и бежит. Куда, еще неизвестно, да и все равно, лишь бы Европа была освобождена от сего ига, а мы могли бы вкусить плоды наших трудов и лишений. Как только мир будет объявлен, а говорят это будет весьма скоро, я возьму отпуск. Дядя, Дмитрий Федорович, по любви своей ко всем нам, а в особенности к тетушке Наталье Дмитриевне, обещал мне выхлопотать отпуск немедленно; тем более имею я основание надеяться, что мне оказано будет предпочтение перед другими, в виду того, что мы понесли тяжкую потерю, лишившись доброго и почтенного отца. И так скоро, очень скоро, милые мои и дорогие матушка и бабушка, я буду с вами, у вас! Какое счастие — я себе не верю. Замолили вы за меня Бога — остался я жив, невредим; из всех сражений вышел без царапины и полечу к вам, как на крыльях. Наш полк стоит теперь, или лучше идет, по Шампании. Какая это прелестная и богатая сторона!
Везде виноградники, и хотя лесов немного, но местоположение миловидное. Здесь уже весна наступает. Зелень в поле и деревья уже распускаются. Одно только видеть, право, жаль — это ихние деревни. Верите ли, кроме старух-женщин и детей, никого встретить нельзя. Ни одного мужчины, разве мальчики лет 13, а все постарше забраны в солдаты. И почитай, все погибли на полях нашей матушки-России и в Германии. Недавно, расскажу я вам, случилось курьезное происшествие, сам ему был очевидцем. Наш гвардейский пехотный полк шел. Все богатыри, молодец к молодцу, любо посмотреть. Против него из лесу и выступил небольшой неприятельский отряд. Глянули наши солдаты: выскочили это из-за лесу мальчишки, маленькие, да худенькие, иные лет 18, а то и 15-летние дети, и начали стрелять, только все мимо, да мимо, видно и стрельбе обучены не были. Солдаты наши на стрельбу не отвечали, а оперлись на ружья, да как захохочут. Да, так залпом хохота их и встретили. Ударились французы назад, да и то сказать — было их мало и все почитай дети. „Что же детей-то стрелять — не пригоже воину“, говорили солдаты, и командиры не перечили им. А уж в деревнях женщины, и особенно старухи, как клянут этого Бонапарта? И не мудрено: у каждой либо муж, либо сын убит, а часто два, три сына. Брали всех до последнего, и очереди уж не было — все пригодны, только бы пополнить убыль. А убыль великая. Остатки армий Наполеоновых держатся еще около Парижа, и скоро либо сдадутся, либо будут уничтожены — полагаю сдадутся — им уже кроме делать нечего. Все это я пишу вам и себе твержу для того, чтобы уверить и вас и себя, что конец войны близок и, стало быть, близко наше свидание. Кажется, не доживу я до этой великой радости, такой великой радости, что я в страх впадаю. После такой разлуки, таких неслыханных бедствий, взятия, разграбления и пожара Москвы, стольких ужасов, битв отчаянных, холоду и, что всего хуже, сердечной муки, виден счастливый конец. Мы приближаемся к столице Франции, войдем… и я полечу к вам. Целую и обнимаю всех сестриц, а у вас, дорогая матушка, и дорогая бабушка и добрые тетушки целую почтительно ручки и прошу вашего благословения.
Покорный сын и внук
Сергей Шалонский.
Скажите милой моей няне, что я не забыл ее и, будучи с полком в городе Труа, купил ей отличный французский платок, по темному полю букетами. Ей не стыдно будет показаться в нем в люди, и вот она у меня, на старости лет, принарядится, идя к обедни. Вместе пойдем. А что я купил сестре Любе и сестренкам, о том — молчок. Доживем — увидим. Лицом в грязь не ударим. А вам, милая матушка, я знаю какой подарок всего дороже. Я себя вам привезу, и если достоин вашей любви, то потому, что люблю и почитаю вас так, что выразить того не умею.
Ваши драгоценные письма составляли мою отраду, и всегда одно из них ношу я на груди, не расстаюсь с ним. Скоро, скоро расцелую я ваши ручки и ножки, дорогая матушка».
Трудно описать наше общее восхищение при чтении этого письма. Сперва матушка прочла его про себя, потом прочла всем нам, потом пошла читать его с няней, а потом сама одна его перечитывала.
— Милый, бесценный, — сказала матушка, — свертывая письмо и бережно укладывая его в свой ридикюль[3], которого никогда не покидала, нося его на цепочке, навитой на руку.
— Добрый, почтительный, и никого-то не забыл, экое золотое сердце, — сказала бабушка.
— Господь-то Бог как милостив, — сказала торжественно няня, стоявшая поодаль и не замечавшая, как крупные слезы капают медленно на ее желтые, морщинистые руки, сложенные одна на другую.
На другой день, желая обмануть наше нетерпение, мы принялись устраивать комнату для брата. Это был большой кабинет с большим полукруглым итальянским окном, выходившим в нижний сад. Яркое, уже весеннее февральское солнце, входило в него и золотило белый, чистый, как скатерть, лаковый пол комнаты. В прежнее время это был кабинет батюшки, когда он гостил в Щеглове. В свой последний приезд батюшка не жил в Щеглове, а когда он занемог, то лежал, и скончался в спальне, находившейся на другой половине флигеля. По единодушному желанию всего семейства кабинет решили отдать брату, а для удаления печальных воспоминаний вынесли прежнюю мебель и купили новую. Для этих закупок мы отправились в Тулу с матушкой и немало хлопотали, закупая все нужное и даже излишнее. Матушка не жалела денег и, не смотря на дороговизну после пожара Москвы, купила все, что нашла лучшего. Я как теперь помню зеленую материю, называемую, не знаю почему, бомба, похожую на шерстяной муар, которую она выбрала для обивки мебели. Мебель, конечно, обивали дома свои люди, а мы присутствовали, помогали, и быть может, помогая, мешали людям работать. За то, как весело, как неумолчно болтали мы, щебетали, как птички, выпущенные на волю. Болтали с нами и дворовые люди, обивавшие мебель, расспрашивали, дивились и радовались и своей, и нашей радости. Тогда в домах добрых помещиков, а бабушка, конечно, была не только добрая госпожа, но мать своих слуг по своей о них заботливости, господствовали чисто патриархальные нравы. Слуги разговаривали свободно, хотя и почтительно, с господами, и обращались бесцеремонно, но ласково и любовно, с молодыми госпожами. Бабушка приказала отпереть свои обширные кладовые и сошла в них, одевшись потеплее, так как холод в подвальном этаже был нестерпимый. Напрасно уговаривали ее не ходить, она никого не хотела слушать. Долго она перебирала свои вещи и наконец вышла оттуда, сопровождаемая целою свитою слуг, которые несли всякую всячину.
— Варенька, — сказала она, входя в кабинет, где матушка хлопотала около обойщиков и мебели, — возьми для Сереженьки. Вот два персидских ковра, их привез мне покойный батюшка из Астрахани, когда он был там наместником. А вот китайского лаку столик и ларец — тоже батюшкин подарок. Вот одеяло из шемахинских шелков, для постели. А вот эти ковры попроще, их послать можно в передней комнате; они из моего вологодского имения, нашего собственного изделия. Мои ткачи ткали их, гляди, как искусно. А это шандалы из Кенигсберга, дядя покойный подарил мне, приехав из чужих краев. А тут еще всякие безделушки, расставь на столах — вазы китайские, японские чашки и идолы ихние, говорил мне дядюшка.
— Что это, маменька, — сказала матушка, целуя ее руки, — чего-чего не набрали вы. Вы, ведь, так берегли эти вещи, сами не употребляли?
— Куда мне их, и кому же отдать, если не нашему храброму воину.
Я не могла насмотреться на все, что приказала принести бабушка. Таких вещей, скажу, вы и не видывали. Персидские ковры, что твое ноле, покрытое муравой и усеянное цветами. Яркие, мягкие, как бархат, нога в них так и тонет, прелесть, а не ковры! А что за шандалы! Амур бежит с колчаном, а в колчане нет уже стрел, он все их расстрелял, а в руках несет факел — этот-то факел и есть шандал. А потом втащили огромный столп, старинные часы с курантами. Завели их, сперва играют они, а потом отворяется дверь, выходит лев, водит большими круглыми глазами, озирается и бьет ногой о камни: что ни удар ногой, то удар часов, и бьют они тот час, который наступил. Лев пробьет и уходит в дверь, дверь щелкает и затворяется, а куранты опять играют — потом щелк — и все смолкло, до следующего часа. Мы залюбовались львом и его большими желтыми круглыми глазами, которыми он водил, когда часы били 12. Тут бывало на него вволю наглядишься — а когда бьет час — выскочит, и глядь уж и нет его! А как хорошо было одеяло из шемахинского шелка, алое с лазоревыми каймами, такое глянцевитое, яркое, и шуршало оно как-то особенно под рукою. И какие китайские лаки, черные с золотом! На горбатой крышке ларца изображены были золотые высокие горы, золотые птицы, китаец с попугаем на руке, китайский дом, дерево тоже китайское, чуднóе какое-то, уродливое, но такое красивое, вода и мостик, такой затейливый, а по бокам ларца все золотые цветы, тоже какие-то чудные. А столик весь разноцветный, с цветами всех красок и с множеством ящиков. Не успели еще налюбоваться и надивиться подарками бабушки, как пришли тети, каждая с своей горничной, с подносом! Тетушка Наталья Дмитриевна взяла с подноса чернильницу и поставила ее на письменный стол. Она представляла римлянина в горестной позе, опиравшегося на тумбу, в тумбе-то и налиты были чернила, а в урне, стоявшей по другую сторону римлянина, песок — но не простой, а золотой песок. Она также принесла и пресс-папье. Казак, с большим султаном на шапке, сидел на камне, а у ног его лежали сабля, ружье и пика. Около него стоял конь, которого он держал за узду. Тетя Ольга приказала принести свою библиотеку из какого-то очень красивого палевого дерева, с золочеными по бокам сфинксами, с новенькими, зелеными в складку сложенными тафтяными заборами, которыми были подложены стекла шкафчика. Тетя Саша, не зная чем угодить, чем порадовать, принесла свою любимицу, канарейку Mimi, певунью и ручную.