1
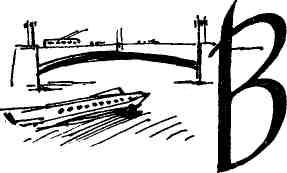
В мае сорок седьмого Балычев приехал в Ленинград. Едва устроившись в гостинице, он узнал телефон Заневской типографии и позвонил Кате. Он просил встретиться с ним по делу важному и неотложному, и они сговорились на вечер. Балычев впервые был в этом районе города, но шел уверенно: очень уж врезались в память рассказы Ивана Алексеевича. Но чем ближе он подходил к цели, тем медленнее становились его шаги.
Одно дело, когда сговариваешься по телефону, и совсем другое, когда стоишь напротив вот этого двухэтажного домика, вокруг которого так пышно разрослась черемуха. Конечно, он мог бы и не приходить сюда — это была его добрая воля, все можно было сделать официально и избежать этого тяжелого свидания…
«Поздно трусить!» — сказал себе Балычев, перешел улицу и открыл калитку. В садике он сразу же увидел Катю. Она сидела на скамейке рядом с пожилой женщиной и о чем-то оживленно с ней говорила.
— Екатерина Григорьевна… — начал Балычев и представился.
Она удивленно на него взглянула:
— Как это вы меня узнали?
— У нас с вами есть общий друг — Иван Алексеевич Федоров. Я с его слов понял… Он так подробно рассказывал о вас…
— Да, да… — сказала Катя быстро. — Ну как же, как же… разумеется… Вы не знакомы? Товарищ Балычев, Мария Филипповна…
Балычев фамилии не расслышал и снова козырнул. У него было такое чувство, как будто он сделал неловкость, упомянув об Иване Алексеевиче.
— Как его здоровье? — спросила Катя.
— Здоровье? — переспросил Балычев. — На сей счет наш Поддубный, кажется, никогда не жаловался.
— Не скажите… Он писал, что перенес плеврит. Там климат очень сырой…
— Ну так вы о нем знаете больше, чем я… Я демобилизовался осенью. Первое время мы часто писали друг другу, ну а потом, когда их перевели…
— Простите, вы демобилизовались осенью сорок пятого? — спросила Катя.
— Да. А Иван Алексеевич уехал в марте сорок шестого в Новинск.
— Я знаю, — сказала Катя.
Пожилая женщина встала и попрощалась.
— Так завтра не забудь, — просила она о чем-то Катю.
— Да, хорошо, не забуду, — отвечала Катя рассеянно. — Мне казалось, вы знакомы с Марией Филипповной, — сказала она, проводив взглядом пожилую женщину. — Мария Филипповна Бельская.
— Ах, вот что! Но ведь она… ведь они, кажется…
— Они давно разошлись. Мария Филипповна со своим воспитанником устроилась в моей комнате… Немного высоко, но вид чудесный: Нева…
— Так, так… Ну а как теперь живет… товарищ Бельский?
— Не знаю, право. Кажется, все на что-то надеется… все еще надеется. Зря, конечно. О Кирпичникове, говорят, специальный приказ был… Пойдемте ко мне, — предложила она Балычеву. — Здесь нам помешают. Хлопочу я, чтобы нам дали другой участок для сада. Хорошо здесь после работы на воздухе, но теснота ужасная: тут и городки, тут и уроки зубрят — через месяц сессия заочников. Вы нам по этой линии не помощник? В исполкоме надо, как это теперь говорят, «толкнуть»…
— Да нет, я не по этой части… — сказал Балычев, но, взглянув на Катю, откашлялся и добавил: — Вообще-то попробовать можно. Может быть, мне что-нибудь и удастся…
— Ну вот и спасибо.
Они вошли в дом, тоже знакомый Балычеву по рассказам Ивана Алексеевича, и Катя сказала:
— Садитесь, пожалуйста. Рассказывайте, что вас сюда привело.
Балычев ответил не сразу. Катя сидела за столом. Он сбоку, в кресле. Он молча смотрел на ее совсем юное лицо — линии рта были необыкновенно нежными, почти детскими — и боялся начать, испытывая тот же страх, который уже испытал на улице, когда стоял напротив типографского домика. Но тогда он еще не видел Катю. А теперь он ее увидел. И, глядя на нее, он вспоминал Ивана Алексеевича и почему-то сердился на него. Ему казалось, что он уловил что-то очень важное в Кате, чего не мог уловить Иван Алексеевич, да и, наверное, никто другой не мог уловить.
— Я только вчера вечером вернулся из Германии, — решительно начал Балычев, — и сразу же позвонил вам…
Теперь молчала Катя, напряженно вслушиваясь в слова Балычева и, кажется, стараясь понять не только их смысл, но и все то, что было за ними.
— Екатерина Григорьевна, я работаю сейчас по репатриации, я был на Западе, там, где лагеря для наших бывших военнопленных. Там я узнал о судьбе Александра Николаевича Турчанова.
Катя не дала ему закончить.
— Стойте, подождите! Стойте… — повторила она тихо. — Он убит?
— Да.
— Я об этом думала. Да, да, я об этом думала… Я… Бедный Александр Николаевич… Бедный Саша… Расскажите мне все, что вы знаете, — попросила она.
— К сожалению, очень немного. В Берлине я узнал, что Турчанов в тюрьме и что положение его тяжелое, что он очень болен. Сначала западные власти все отрицали, потом признались, что он в тюрьме, но якобы за какое-то уголовное преступление. Об этом деле уже стали писать даже в их газетах. Шведская миссия Красного Креста сообщила мне, что Турчанов действительно болен. К этому времени я наконец получил визу и допуск в лагерь…
— Говорите все, говорите все, не бойтесь, прошу вас, — сказала Катя. Она крепко стиснула зубы, и от этого линии рта, которые вначале поразили Балычева своей нежностью, почти детскостью, стали суровыми и жесткими.
— Что говорить, Екатерина Григорьевна! Это тысячи людей без крова, многие тяжело больны. Нужда во всем. Голод. Те же лагеря, в которых содержались наши люди во время войны. И проволока, и овчарки, и можно стрелять по беззащитным людям. Только сторож в другой форме, а наши люди называются не военнопленными, а «перемещенными». То, что я видел своими глазами, — ужасно, но то, чего я не видел, во много раз ужаснее. Мне говорили: «Сюда нельзя», «Специальное ограждение», «Запрещено», а в тех случаях, когда я мог разговаривать с нашими советскими людьми, между нами были те же тюремщики, только почему-то они называются толмачами. Как будто можно переводить с русского на русский! Там, в лагере, я услышал о Турчанове, вернее, о его гибели: убит при попытке к бегству. Этому трудно поверить. Больной, измученный, а главное, ведь это было накануне свидания с нами…
— Может быть, он не знал, что ему предстояло это свидание? — спросила Катя.
— Может быть…
— Ужасно жаль Сашу, — сказала Катя. — Он очень надеялся, что отец вернется. А знаете, какой хороший парень стал? — сказала она с воодушевлением. — Настоящий человек, товарищ, на все отзывчивый, ясная голова, руки золотые. Ужасно жаль… Вы приходите завтра, я хочу, чтобы вы познакомились. Придете?
— Конечно. Мне же надо рассказать ему об Александре Николаевиче.
— Не надо. Я сама, — сказала Катя.
— Екатерина Григорьевна!
— Нет, я знаю: так лучше будет. Вы не обижайтесь, но так будет лучше…
Балычев молча кивнул головой. Долгое время оба молчали.
— Они что, снова хотят войны? Снова хотят войны? — повторила Катя. — Вы мне скажите, вы ведь там были…
— Как мне вам ответить, не знаю, — сказал Балычев. — Ненависть, злоба, страшная жажда власти — это сильные дрожжи. Человек дышит этим кислым воздухом. Он проникает в легкие, заражает.
— Слава богу, у нас воздух чистый, — сказала Катя, — и легкие покрепче. И не только легкие, — добавила она и улыбнулась. Улыбка смягчила жесткие линии рта, и светлые теплые лучики побежали снизу вверх к тоненьким морщинкам возле глаз.
Только сейчас Балычев заметил, что вокруг стемнело. Правда, то была не ночь, а только сумрак — до ночи в это время года еще далеко, но контраст света и тени был поразительный.
— Мне, пожалуй, пора… — сказал Балычев.
Катя его не удерживала и только напомнила, чтобы он пришел завтра.
— Часов в пять-шесть лучше всего. А то ведь Саша вечерами уходит учиться. Что-то мастерит, кажется планер. В летчики готовится, — и снова улыбка осветила ее лицо.
Балычев вышел в садик. Густо пахло черемухой и еще чем-то необыкновенно домашним. Это на Неве мальчишки разожгли костер. Ночь была сухой, холодной, и горькие струйки дыма быстро добрались сюда.
Балычев постоял немного, вздохнул и быстро зашагал домой.