Давайте пойдем к искомому от загадок художественных произведений Чернышевского и прежде всего от «Что делать?».
Если в «Что делать?» действительно прослеживается автобиографическое начало (а в этом не приходится сомневаться), и Лопухов — это сам Николай Гаврилович (кроме Н. М. Чернышевской, это же свидетельствует и О. С. Чернышевская) то невольно спрашиваешь себя: случайно или не случайно в романе изображена история второго увлечения Лопухова, его второго брака, брака с Катей Полозовой? И при каких же обстоятельствах заключается этот брак! Вера Павловна выходит замуж за Кирсанова; но ведь их с Лопуховым «добрые» отношения, какими они были в их браке, вовсе не изжиты до конца! Чтобы помочь Вере Павловне соединиться с Кирсановым, Лопухов даже и не исчезает полностью из ее жизни, лишь на время «удаляется со сцены» — только для того, чтобы устранились некоторые чисто внешние, формальные препятствия соединению Веры Павловны и Кирсанова, — и Вера Павловна это принимает: вспомним, как легко она утешается запиской, которую ей показывает Рахметов. Проходит время, и Лопухов, уже обручившийся с Катей, вновь входит в жизнь Веры Павловны. Все это, в сущности, означает, что оба они, Вера Павловна и Лопухов, оставаясь в прежних «добрых», родственных отношениях, позволяют друг другу вторую любовь.
Но что означает эта вторая любовь Лопухова с точки зрения того способа развязывать коллизии треугольников, который предлагает в романе Чернышевский? Означает ли она, что Чернышевский допускает, при определенных обстоятельствах, расширение границ брака не только до трех человек (ménage en trois — «брак втроем»), но и до четырех человек? Может быть, и больше? До каких же пределов? Должны же быть какие-то пределы брака, если, конечно, не отрицать сам по себе институт брака, — в чем они? А с другой стороны, нет ли аналога этого второго увлечения Лопухова, аналога его чувства к Кате Полозовой, — в реальной жизни, в жизни самого Николая Гавриловича?
Для того чтобы именно так поставить последний вопрос, есть основания. Нужно иметь в виду следующее. Характер отношений, сложившихся между Николаем Гавриловичем, Ольгой Сократовной и Иваном Федоровичем Савицким к весне — лету 1861 года, вовсе не был идиллическим, по летней переписке Ольги Сократовны и Николая Гавриловича можно заметить, что между ними в эти месяцы было определенное напряжение; летом 1861 года Чернышевский, впервые за годы брака, живет в Петербурге один, Ольга Сократовна с детьми и с Савицким — на даче в Павловске, Николай Гаврилович очень не часто, опять-таки на него не похоже, ездит к ним. В это время у Николая Гавриловича наступает довольно длительный перерыв в его кабинетных занятиях: в апреле — мае он часто отвлекается, а с начала июня вовсе откладывает, не кончив, перевод Милля, с конца же августа по середину сентября он — в Саратове, где, как пишет Добролюбову, «утопает в объятиях дружбы», никакой работой не занимается. Именно в 1861 году, в летние и осенние месяцы, Чернышевский особенно часто встречается с представительницами ширившегося женского движения, первыми студентками — слушательницами лекций в Петербургском университете и Медико-хирургической академии, где занимались и его двоюродные сестры Евгения и Полина Пыпины, встречается с зачинательницами разных общественных предприятий, вроде организации общежитий для бедных или швейных мастерских (известный кружок М. В. Трубниковой, дочери декабриста В. П. Ивашева). Среди близких знакомых Чернышевского — активистки женского движения Н. Корсини, Н. Суслова, М. Богданова, А. Блюммер, М. Обручева (Бокова). Эти молодые, образованные и думающие женщины, близко подходившие к идеалу женщины-друга, о котором мечтал Чернышевский и которым так и не стала для него Ольга Сократовна, не могли не вызывать его уважения и восхищения. Их общество, уж конечно, больше привлекало Николая Гавриловича в то бурное время первого пореформенного года, чем общество его жены, вовсе неинтересовавшейся общественными вопросами. Нет никакого сомнения в том, что именно этих женщин видел Чернышевский перед собой, когда писал Веру Павловну и Катю Полозову, их, а не собственно Ольгу Сократовну.
Так что же побудило его с таким энтузиазмом, решительно взяться, после 1861 года, за разработку тем женской эмансипации, брака и любви, эмансипации чувств, — головное ли решение? Или же произошло в его жизни живое событие, потрясшее его, которое и заставило его вновь обратить внимание на поразительную силу власти над человеком сферы чувств?.. Уже в самих эти вопросах слышится ответ.
Да, есть основания предположить, что весной — осенью 1861 года Чернышевский пережил сильное, глубокое чувство, вызванное в нем отнюдь не Ольгой Сократовной. Это эмоциональное переживание и наложило отпечаток на его последующее творчество. А прежде того — заставило внести коррективы в его теорию «перегнутой палки». Заставило пересмотреть весь круг громадной сложности вопросов, связанных с проблемой внутренней устроенности, личного счастья человека, осмыслить их социологически.
В романе о Чернышевском я попытался воссоздать эту историю возможного увлечения Николая Гавриловича. Это — гипотеза, и, как всякая гипотеза, она имеет право на существование постольку, поскольку опирается на весь арсенал уже добытого знания о предмете, о котором идет речь, и дерзает проложить тропку к новому знанию о нем. Для меня она важна тем, что, как мне кажется, дает ключ к пониманию некоторых идейных и сюжетных узлов «Что делать?» и других художественных произведений Чернышевского. Героиня романа Анна Аркадьевна Францева-Ремизова представляет собой попытку обратной реконструкции целой галереи героинь самого Чернышевского — и Кати Полозовой из «Что делать?», и Лизы Свилиной из «Истории одной девушки», и Полины Павловны из «Отблесков сияния», и других. А что из этой попытки вышло, судить, уж конечно, не мне — читателю.
Написал последнюю фразу и подумал: читатель, положим, составит свое суждение о высказанной гипотезе, но побудит ли это его обратиться к сочинениям самого Чернышевского? Хотелось бы, чтобы так было. А то как-то так получается, что чем больше пишется и говорится, накапливается с годами и десятилетиями высказываний о классиках, тем реже открываются страницы их собственных книг. И если читателя потянет к сочинениям Чернышевского, хочу посоветовать ему внимательно прочесть и иные из «недочитанных» произведений писателя, помимо тех, о которых речь шла выше. Прежде всего имею в виду два удивительных рассказа, «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле», написанных в форме восточной притчи и представляющих собою пророчество писателя о будущем, попытку вообразить дальнейшее развитие науки и техники и — возможную грядущую катастрофу человечества в случае, если технический прогресс будет слишком опережать прогресс социальный и нравственный. До самого последнего времени эти рассказы вовсе выпадали из поля зрения «чернышевсковедов». На них обратил внимание М. Пинаев в статье «Зоркость и предвидения художника-мыслителя» («Наш современник», 1978, № 11). Указав на провидческий смысл рассказов, на трагичность представленной в них коллизии, приводящей к использованию людьми ужасного оружия, действие которого основано на использовании энергии, подобной солнечной («сила солнца»), автор статьи замечает: «Трудно отрешиться от мысли, что эти строки писал узник далекого каторжного рудника за 75 лет до страшных атомных взрывов!»
Еще хочу посоветовать перечитать прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам», соотнести ее со статьями писателя 1861–1862 годов, и прежде всего с «Письмами без адреса». Подумать только, ведь до сих пор нет между исследователями единого мнения о том, кто написал эту прокламацию, действительно ли она принадлежит перу Чернышевского.
Еще…
Кажется, даже тему очерка невозможно «выработать» до конца, а все творчество Чернышевского неисчерпаемо, как неисчерпаема была его живая личность.
IV
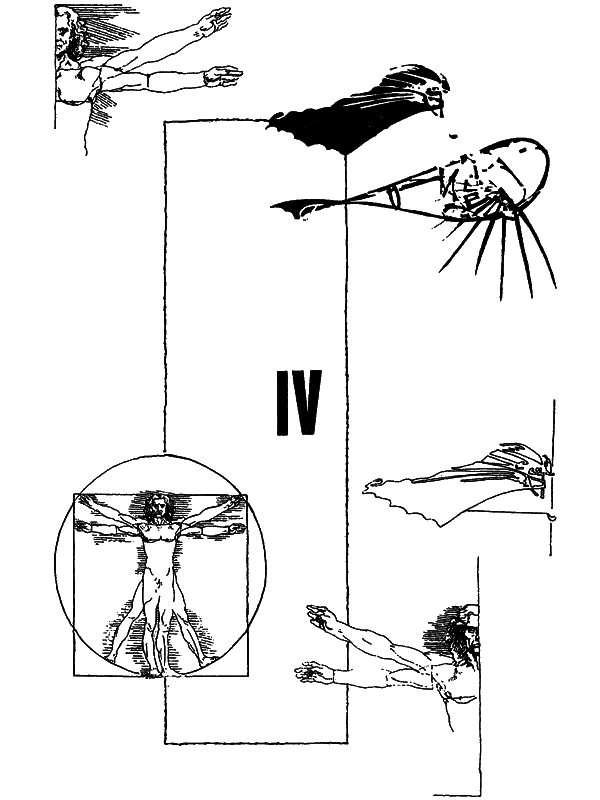
И. Забелин
Его космос
В середине прошлого столетия ни в Европе, ни в Северной и Южной Америке не было ни одного сколько-нибудь солидного научного общества, которое не числило бы Александра Гумбольдта своим почетным членом. И не имело значения, кого объединяло общество — ботаников или астрономов, географов или лингвистов, химиков или геологов, физиков или искусствоведов. Гумбольдт был, как говорится, «своим человеком» почти во всех областях современной ему науки, и не льстецы, а коллеги сравнивали его с древнегреческим философом Аристотелем, имя которого стало синонимом универсального научного гения… Есть ли в этом преувеличение?.. Вероятно. Но незначительное.