Сердечно преданная Вам
Ю. Вревская.
«ВОЙНА ВБЛИЗИ УЖАСНА»
«...Люди русские, да не оскудеет и ныне ваша помогающая рука! Вы спасли от голодной смерти многих и очень многих... Теперь же не оттолкните от вашего сердца и припавших к нему болгар», — писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1876 года — и медные пятаки, копейки опускались в кружки для пожертвований. Во дворе «Славянского базара», в Москве, и в других местах собирались целые толпы и ждали решения — кому можно будет идти на фронт и кому нельзя.
На улице в эти дни запросто можно было встретить семидесятилетнего сановника, отдающего последние визиты и записавшегося в корнеты гусарского полка — на лошади «корнет» держался вполне сносно.
Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает о молодой девушке из состоятельной семьи, которая пришла к нему за благословением.
«Мне вдруг стало очень жаль её, она так молода. Пугать её трудностями, войной, тифом в лазаретах — было совсем лишнее: это значило бы подливать масло в огонь. Тут была единственно лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела и, главное, что всего было дороже — никакого тщеславия, никакого самоупоения, а просто желание — «ходить за ранеными», принести пользу.
— Но ведь вы не умеете ходить за ранеными?
— Да, но я уже справляюсь и была в комитете. Поступающим дают срок в две недели, и я, конечно, приготовлюсь.
— Но вы же так молоды, как можете вы ручаться за себя?
— Почему вы думаете, что я так молода? Мне уже восемнадцать лет...
— Ну, Бог с вами, ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорее назад.
Она ушла с сияющим лицом и уж, конечно, через неделю будет там».
Однако Александр II медлил. У него ещё были надежды на дипломатов. Благоразумие брало верх над чувствами, он боялся подвести Россию под новую европейскую войну, а крымское поражение вселяло сомнение в безоговорочной победе.
Все, без исключения, общественные круги были недовольны; стали поговаривать, что Каракозов промахнулся напрасно; государственная и дипломатическая верхушка во главе с князем Горчаковым, военным министром Милютиным и генералом Игнатьевым начала склоняться к мысли, что война с Турцией после поражения Сербии, ультиматума и уже частичной мобилизации русских войск, во-первых, почти неизбежна, во-вторых, вполне могла бы послужить «пробным камнем» для оценки того, что было сделано в армии после крымского поражения. Газеты же продолжали в изобилии печатать на своих страницах воззвания и телеграммы о поднятых на штыки младенцах, обезглавленных в алтарях православных священниках и обесчещенных и убитых девушках и старухах. Вся Россия закипала, как смола, от подобных известий. Не богатства и земли были приманкой, а попираемая вера православная да турецкие изуверства — вот уже «...и стар и млад точит саблю. Давненько казачий конь не пил дунайской водицы».
Император не хотел войны. Вылазку генерала Черняева он назвал «авантюристической выходкой и самоубийством», хотел лишить орденов за то, что тот увлёк на верную смерть тысячи. «Черняев повёл их не отличаться, а умирать...» — писали в газетах. Писали с пафосом, восхищаясь этими смертями, и только царь и граф Толстой осуждающе смотрели на эту «смелость». В VIII главе «Анны Карениной» Лев Николаевич распёк добровольцев, назвав авантюристами и шалопаями. Славянофилы затопали ногами на такую «бескрылую» позицию, и всегда такой несговорчивый Толстой поддался (дворянская честь?) и уж после говорил: «Вся Россия там, и я должен идти»; к счастью, Софья Андреевна легла костьми — не пустила.
А господин Достоевский выступил со статьёй «Не всегда война бич, а иногда и спасение».
Неужели и впрямь лучше иметь великую историю, украшенную боевой славой (к чему и призывал И. Аксаков), чем просто сохранённые жизни?.. А народ говорит: «Худой мир лучше доброй брани».
Война (особенно освободительная) всегда пачкается брызгами шампанского, и каждый волонтёр за месяц до неё — уже герой. А кончается она всегда тем, что ободранный, измученный бессонницей, поносом и холодом человек в отчаянии думает: как бы выпутаться из беды... Хватит крови, смерти, вони, скорей бы домой!
Русско-турецкая война 1877—1878 годов завершилась мирным договором в Сан-Стефано 19 февраля 1878 года. В день годовщины отмены крепостного права. Русское общество по-разному отнеслось к окончанию войны. Нигилисты дождались домой царя и снова начали убивать его, либералы и консерваторы объединились и принялись заново разжигать страсти. Они требовали продолжения, им — невоевавшим — было мало крови. Они смело заявляли, что «Царьград ещё не очищен от азиатской скверны, и задача России решена ещё не вполне».
Аксаков, гневно указывая на Александра II, объявлял, что Россия покрыла себя позором, не войдя в Константинополь, добровольно отказалась от успехов, за которые плачено кровью. Как он умел говорить! А войди русские в Константинополь, тут же началась бы новая война с Англией — России был поставлен ультиматум, — и император снова «малодушно» жалел русскую кровь.
А Скобелев, стыдясь, не мог императору в глаза смотреть — ну, этот-то вояка, ему без войны скучно; но Аксаков? Интеллигентный господин в пенсне, с высоким лбом — зачем ему было столько крови? Двести тысяч русских жизней — неужели не хватило для славянской идеи такого жертвоприношения?!
Аксакову предлагали стать королём Болгарии! Что же он отказался? Войну «расхлёбывали» все вместе. Кроме людей военных, немало, как это ни удивительно, и «служителей муз».
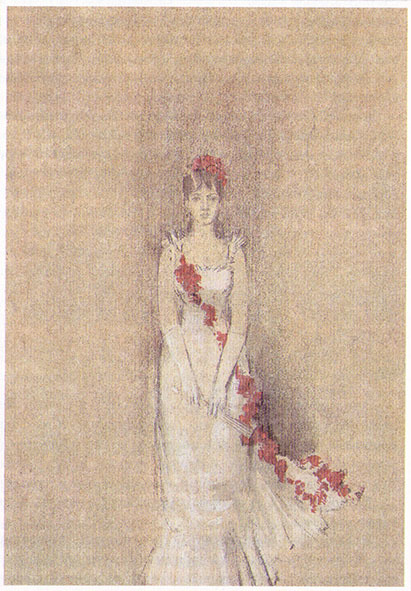
Георгиевский крест за храбрость получил известный художник П. П. Соколов. Отлично воевал В. В. Верещагин — был помощником минёра на катере «Шутка», сражался с турецким военным кораблём. В Дунайской армии воевал В. Д. Поленов. О приключениях Немировича-Данченко на маленькой шустрой лошадке знал по его корреспонденциям весь Петербург. Семидесятичетырёхлетний Пирогов и тот пошёл. «Что за гениальный старик, какая в нём неутомимость!» — писали о нём с фронта. Дядя Гиляй от избытка молодечества подался в пластуны — отряд смертников — и с наслаждением добывал «языков», ходил в разведки и резал турка ножом, которым пользовался с особой ловкостью. До того как его надоумили идти в пластуны, он буквально пропадал со скуки.
А доброволец Гаршин, стоя в распахнутой шинели у Исаакия, говорил жаркие речи на проводах, а потом в бою застрелил турка, пролежал рядом с ним четыре дня раненый, смотрел, как человек, у которого было сердце, глаза, страх, счастье, жена, дети, — раздувался, пух, рос до неба, а потом сползал с собственных костей, лопался и сох — и всё это сделал с ним он, пылкий доброволец Всеволод Гаршин, во имя освобождения и Христа... Ему и хватило... Демобилизовался и всё ходил с детскими глазами по кабинетам, просил, чтобы отменили смертную казнь, отменили войну, отменили смерть... А кончил в лестничном пролёте.
Его смерть, пожалуй, последний отзвук славной победы.
...Однако Александр II медлил.
Звонили траурные колокола, сыпались в кружку медяки «на угнетённых славян», выстраивались в очередь добровольцы. Дипломаты и политики волновались, предчувствуя долгожданные интриги, дележи и перемены. Все хотели воевать. А он один — между Богом и людьми.
В апреле 1877 года пришло письмо от экзарха Болгарии Антима:
«...Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимание на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!»
Манифест был подписан.
Дальше всё понеслось стремительно и необратимо. На Константинопольской январской конференции 1877 года, на последнем заседании, поднялся Савфет-паша и прочёл ноту — категорический отказ в улучшении участи восточных славян, что расценивалось как действия, «несовместимые с достоинством Оттоманской империи». Эта нота была пощёчиной России.