Майские ветры
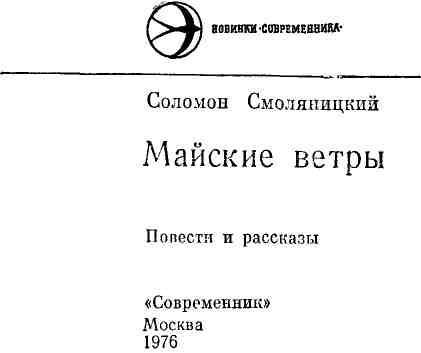
Повести
Майские ветры
Глава первая
Полк, где служил старшина Дежков, был в первом эшелоне январского наступления трех фронтов, получившего название Висло-Одерской операции. Дежков не мог знать ни масштабов, ни целей этого жесточайшего сражения, которое началось на берегах Вислы, а через двадцать три дня завершилось форсированием Одера в семидесяти километрах от Берлина, но он знал, что воина неотвратимо катилась туда, где должна кончиться.
Фронт стремительно отодвигался все дальше на запад от польской деревеньки, где полк Дежкова, обескровленный в первые дни прорыва долговременной обороны немцев, получил приказ остановиться, чтобы пополниться людьми и вооружением, и сейчас сюда даже не доходил глухой гул сражения, как это было несколько дней назад, лишь чуть в стороне, по шляху, шли и шли войска второго эшелона.
Старшина понимал, что могло означать такое быстрое продвижение огромной массы войск. А ведь немцы со всей своей техникой, которой они нагнали сюда видимо-невидимо, хотели намертво вцепиться в землю на этих рубежах, защищавших их собственную территорию. Выходит, не устоять им теперь, и как ни поворачивай, а войне скоро конец. И город Берлин не за горами, не за морями. А то, что Гитлера надо достать в самом Берлине, в его логове, — в этом лично он, Дежков, не сомневался.
Мысль о скорой победе, однажды возникнув, уже не покидала его и вызывала другие, которые раньше он гнал от себя, чтобы не затосковать, но теперь здесь, в деревне, хоть в польской, а все ж в деревне, он уже не мог с собой ничего поделать. Днем еще так-сяк, ему и поесть-то было недосуг (известное дело — на пополнении у солдата считай что отдых, а у старшины хлопот полон рот), а вот ночью… Лежа без сна, попыхивая цигаркой, старшина вспоминал Чистоозерск, залитый горячим степным солнцем, свой дом, поставленный им чуть на отлете, возле тополиной рощицы, где люди начали строиться лишь перед самой войной. И то ли это было, да быльем поросло, а теперь вот вспоминалось, то ли фантазия такая, а только чудилось ему, будто видит он сквозь сон, как жена, Надежда, намыливала сидящую в корыте Маришку и так складно приговаривала что-то — то ли для себя, то ли для Маришки, — и он будто чувствовал особенный теплый парной запах ребенка, и мыльной воды, и натопленного дома…
Но об этих ночных мечтаниях старшины в роте никто и помыслить не мог, да и сам он, если вправду сказать, удивлялся и корил себя — да что поделаешь? Ночью человек над собой не волен, хоть приказывай себе, хоть не приказывай — все одно… Видно, устал от войны. Большая эта война, огромная, без конца и края, а тут край обозначился…
Удивлялся себе Василий Андронович не напрасно: был он человек строгий, можно сказать, суровый. И наружностью. И характером. Сухой, жилистый, ростом невелик, чуть выше среднего, зато широкий в кости. Запоминалось его лицо, темнокожее, с резкими чертами, словно обточенное ветром и подсушенное солнцем, и светлые, чистой воды зоркие глаза.
Действительную Дежков отслужил еще в тридцать шестом на Украине. А как вернулся на свою Кулунду, в Чистоозерск, женился, и поставили его бригадиром в колхозе… Да было ли все это? Утром, когда опять приказывала война, прошлая, довоенная жизнь отходила и от большого расстояния как бы уменьшалась в размерах и покрывалась рябью, будто смотришь на нее издалека — на нее и на себя самого, только другого, довоенного.
Об этом и думал старшина, проснувшись засветло. Он лежал, неторопливо курил, смотрел, как под потолком медленно растекается синеватый дымок. Но время шло к подъему, и пора было вставать. Пока старшина одевался, мысли его приняли привычное направление, которое дала им война, ее заботы.
После завтрака, обойдя хозяйство роты и проверив, все ли идет как положено, Дежков направился к командиру за указаниями. Он не торопясь шел по заснеженной улице села, полной грудью вдыхая чистый морозный воздух, в котором чуялся горьковатый, всюду одинаковый домашний запах дымка. Война войной, а печи надо топить и хлеб надо ставить.
Утро выдалось солнечное, ясное, с радужными искорками, какое в Сибири бывает в марте, когда отшумят метели и уже чувствуется — зима, пошла на убыль. Вот и весна скоро, подумалось Дежкову. Еще одна весна…
Подходя к дому, где жил командир, старшина услышал далекий гул. Он остановился, снял шапку. «Так и есть, наши летят, — определил он по звуку. — Давайте, ребятки. Всыпьте ему, чтоб издох поскорей». О фашистах Василий Андронович всегда говорил в единственном числе, хотя повидал всяких — и солдат и офицеров. Но для него все они были на одно лицо. А гул уже превратился в ровный рокот, и вот, сверкая красными звездами, в голубом бездонном небе показались наши самолеты. Дежков по фронтовой привычке быстро сосчитал их.
Они летели широким растянутым клином — тупым углом вперед, шесть штурмовиков, «горбатых». А над ними по двое впереди, справа и слева шли верткие «ястребки».
Так, удовлетворенно отметил про себя Дежков, шесть и шесть. Попробуй сунься. Это тебе не сорок первый. Он-то знал, что это такое, когда над тобой все они — с черными крестами на крыльях. Когда видишь, как отрываются от них черные капля, и бежишь из колонны, с дороги, глотая горячий воздух с пылью и по́том, бежишь, чтобы ткнуться в траву, и вдавиться в нее, и ждать, когда надвигающийся, раздирающий душу вой столкнется с землей и вся она вздрогнет и разорвется со страшным грохотом, готовая поглотить тебя. Их много, и некому остановить их. Вой мешается с ревом и грохотом, и ты теряешь счет времени. А когда поднимешь голову, сквозь огонь и дым, сквозь черные тучи, наползающие на солнце, увидишь другие самолеты, тоже с крестами на крыльях, и они на бреющем будут расстреливать тебя из пушек и пулеметов и погонятся за тобой, если ты побежишь. А наших нет и нет, и ты не помня себя, в бессильной ярости, лежа на спине, бьешь из винтовки.
Самолеты пронеслись и скрылись, а он все стоял, прислушиваясь, пока не стих удаляющийся глуховатый рокот. Потом глубоко вздохнул, надел шапку и вошел за ограду дома, где разместился командир со своим заместителем. Строго взглянув на часового, пританцовывающего на крыльце, открыл дверь.
Командир роты старший лейтенант Кравцов, худой, со впалыми щеками, хотя и молодой, но с нездоровым, желтовато-пергаментным цветом лица, сидел за с голом, низко склонившись над бумагами. Только сейчас Дежков почему-то обратил внимание на седину, пробивавшуюся в коротко остриженных русых волосах его командира, и подумал о том, как трудно достается человеку война. Конечно, от такой войны в сторону не отойдешь — совесть не позволит. А все лучше этому учителю из самой Москвы сидеть где-нибудь в штабе дивизии, а то и армии, планировать операции или там разведданные собирать. А он и в атаку ходил, и под огнем полз, и на марше замерзал, и голодным сидел — всякого хлебнул со своей ротой. И не жаловался, и снисхождения к себе не имел. И то ли ночные мечтания размягчили сердце Василия Андроновича, то ли оттого, что утро выдалось такое славное, чистое и солнечное, с краснозвездными самолетами, летящими туда, за Одер, да только захотелось ему сказать командиру что-то хорошее, подбодрить, поддержать: ничего, мол, выдюжишь, потерпи маленько — теперь-то уж скоро…
Командир против обыкновения выслушал рапорт до конца и, сурово (а может, показалось?) взглянув на старшину, предложил сесть. Кравцов давно оценил спокойное мужество и хозяйственную сметку Дежкова и втайне считал, что такого старшину послал ему сам господь бог. У этого твердого, рассудительного сибирячка всегда был наивозможнейший на войне порядок, а ученого учить — только портить. Но на этот раз он изменил своему обычаю и произнес краткую наставительную речь.