Ибо он знал, что призван спасти искусство, литературу и политику своей страны. И он снова и снова начинал издавать газету или сотрудничал в уже существующих газетах, которые должны были помочь осуществить его миссию. Им удавалось протянуть несколько месяцев, иным даже несколько лет, прежде чем передать последний судорожный вздох гения. Но до чего же чисто они мели, пока были новы! С высоты, недоступной никаким порокам так называемой человеческой природы, они мели и мели и сотрясали воздух, пока внезапно не обнаруживалось, что нечем дышать. И как близки, как непостижимо близки они были к тому, чтобы вместо всего этого мусора предложить свои подлинные законы искусства и жизни! Еще какой-нибудь месяц, год, еще одна хорошая чистка, и они этого добьются. И вот тут-то, с последним взмахом метлы, он и скажет свое слово! Наконец-то они дождутся человека, который даст им настоящую философию, настоящую творческую мысль, — человека, чьи стихи и картины, музыка, проза, драма, проекты преобразований произведут всеобщий переворот! И тогда он покинет эту отслужившую свою службу газету и, посоветовавшись сам с собой, создаст новый орган.
Уж эта-то газета будет основана на самых незыблемых принципах. Прежде всего никакой терпимости, никакой пощады никому! В прошлый раз они слишком многое прощали. Они щадили некоторые имена. Больше этого не повторится, довольно! Этих невежд и шарлатанов надо прикончить раз и навсегда. А вместе с ними — в огонь всю общественную структуру с ее прогнившими догмами искусства, религии, социологии. На этот раз он не потерпит пустоты, он найдет, чем все это заменить. Теперь будет самое время показать и объяснить тайное биение пульса будущего, которое пока открылось ему одному. Каждый лист газеты будет пронизан пламенем, неотразимым, красноватым пламенем гения. Это будет грандиозное излучение. И, накинув на свое тощее тело изодранный плащ, он начинал все сызнова.
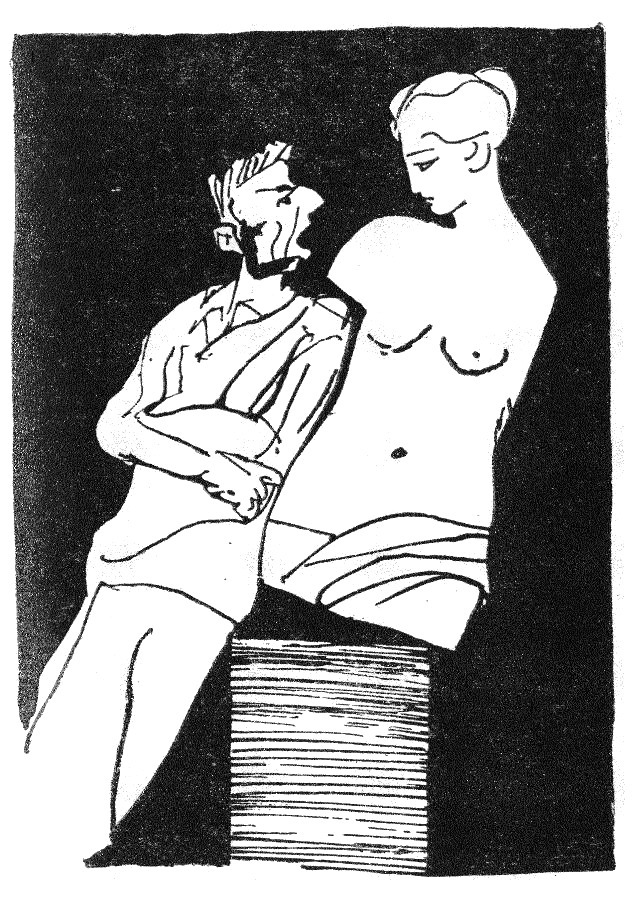
В первых трех номерах он разнесет все до основания и благоговейно уготовит пути грядущему. В четвертом номере он соберет все свои силы, чтобы нанести сокрушительный удар по всему фронту и отбить все злобные контратаки смертельно уязвленных жрецов и апостолов прошлого; на этот сокрушительный удар будут брошены все силы на страницах пятого, шестого, седьмого и восьмого номеров. В девятом номере он заявит о своей готовности выполнить положительную программу, которая была обещана в первых номерах. В десятом он скажет, что если разложившееся общество не поддержит его героические начинания, оно так и не увидит гения. В одиннадцатом номере он учинит небывалый разгром и в двенадцатом испустит дух.
Не следует забывать, что наш герой не принадлежал к породе самодовольных людей, способных чем бы то ни было удовлетвориться раз и навсегда. Нет, это была более возвышенная натура — он вечно стремился ввысь, к идеалу, которого только он когда-нибудь достигнет. На нем лежала печать божественной неудовлетворенности даже самим собой; свое превосходство он сознавал лишь в сравнении со всем прочим человечеством.
Какое счастье, что умер Ницше! Теперь он мог с легким сердцем и чистой совестью бить в барабан, оставленный человеком, которого наш герой, не колеблясь, называл великим. И все-таки, часто говорил он, что может быть глупее этого безмозглого сброда, именующего себя сверхчеловеками! Кроме Ницше, он, пожалуй, ни одного мыслителя не считал равным себе, особенно он не выносил Аристотеля и того, кто основал религию его страны.
Государственных деятелей он расценивал очень низко: все они в конце концов просто политиканы! Во всей истории он не находил никого, кто, подобно ангелу утра, отвечал бы за судьбы человечества; никого, кто смог подняться над презренной суетой человеческих деяний и стремлений.
Его любимым поэтом был Блейк, любимым драматургом — Стриндберг, человек, подававший большие надежды и, по счастью, умерший. Из романистов он признавал Достоевского. Кого же еще можно назвать? Кто еще сумел выйти из рамок тупой, нормальной человеческой рассудочности и вскрыть потрясающие стороны человеческой души в состоянии опьянения или сна? Кто еще сумел показать жизнь в таком разрезе, где с начала и до конца вы не найдете скучного прозябания, не преображенного кошмаром? Ведь только, в кошмаре человеческая душа раскрывает все свои возможности.
Он питал особое пристрастие к кошмарам, даже в их смягченной форме, пристрастие человека, которому ясно, что в мире только один кошмар недоступен обыкновенному здравому человеку в состоянии бодрствования. И он так ненавидел обыкновенных здоровых людей с их полной неспособностью что-либо понимать!
По художественным вкусам он был пауло-пост-импрессионистом, и о художнике, которым он восторгался, пока еще никто ничего не слыхал. Однако в свое время о нем обязательно заговорят. С его признанием начнется новая эра в искусстве, равной которой не знала история, если, пожалуй, не считать одного периода в китайском искусстве, задолго до того времени, о котором наговорили столько вздора эти жалкие ученые мужи.
Он был знатоком музыки, и ничто не доставляло ему больших страданий, чем мелодия. Из всех стариков он признавал одного Баха, и только его фуги. Вагнер местами неплох. Штраус, Дебюсси терпимы, конечно, но все они vieux jeu [1]. Вот есть один эскимос. Его имя? Ну нет, подождите. Вот это действительно музыка! Вы еще вспомните мои слова!
Именно ради того, чтобы просветить мир, он так страстно жаждал сказать свое слово, ведь иной раз казалось — больше нет сил терпеть эту косность и видеть, как его тележка, рвущаяся к звездам, утопает в грязи заросшего плесенью и паутиной мира, где даже этические нормы — это жалкое бутафорское тряпье, которым прикрывается человеческая сущность, — так глубоко ему чужды.
Что касается этических условностей, то ему особенно были невыносимы джентльмены с их отжившим, допотопным кодексом: в силу каких-то давно истлевших и бессмысленных традиций уважать чувства и убеждения других людей и подчинять этим условностям свое высшее я — ну нет, знаете ли, всему есть предел! Напротив, он считал своим священным долгом всеми силами бороться с предрассудками и предубеждениями всякого, с кем ему приходилось сталкиваться, особенно в печати. Он и всегда был добросовестным человеком, но ни к одной своей обязанности он не относился так добросовестно, как к этой. Что бы он ни писал, что бы ни говорил, он не считал нужным смягчать выражения или обходить личности; в вопросах духовных его честность не внала границ. Но он никогда не изливал своего гнева и презрения попусту; на его взгляд, весь мир заслуживал его бича, и ему не стоило труда найти достойную жертву. Он совсем не стремился выделяться при помощи каких-нибудь внешних вычурностей — это удел посредственности. Так, одевался он всегда донельзя строго, хотя нет-нет да и появлялся в красной рубашке, либо в серых башмаках, или ярко-желтом галстуке. Всецело поглощенный мыслями о будущем, он вел довольно умеренный образ жизни. Детей у него не было, но он считал, что без них нельзя, и собирался, как только позволит время, обзавестись ими, ведь это долг каждого смертного перед человечеством. Появятся ли они прежде, чем он скажет свое слово, предугадать было трудно. Ведь он вряд ли сможет сократить для этого свою высокую деятельность.
Иной раз он так уходил в свою работу, что не узнавал сам себя; зато вы сразу его распознавали по тому прерывистому сопению, которое характерно для всякого человека в состоянии творческого экстаза. Когда его гений пребывал в высших сферах, он забывал обо всем, даже о пере и бумаге; он парил в облаках, и, подобно их невесомым нагромождениям, повисали его расплывчатые, бессмертные и ускользающие, как воздух, видения и мысли. Как он досадовал потом, что не удосужился пригвоздить их к земле! Да, с его нетерпимостью ко всему, кроме божественного совершенства, и с его непоколебимой верой, что он непременно достигнет этого совершенства, он был, пожалуй, самой интересной личностью в пределах… Не стоит уточнять, в каких именно пределах.
1
Устарели (франц.).