Роберт ответил довольно резко:
— Ваша жизнь, Томс, идет не так, как моя. Мы все познаем на собственной шкуре. Через собственную свою жизнь.
— Так, — произнес Томс, останавливаясь перед Робертом. — А миллионы нацистов? Тоже узнали на собственной шкуре? Да, но только когда им худо пришлось. Голод и холод и «катюши». Почему некоторые не стали нацистами? Сохранили верность? Даже в концлагере. И еще бог знает где. Не могу поверить, что вы, Роберт, всегда были точно таким, как сегодня, благодаря вашей собственной жизни или как вы там это называете. Не сомневаюсь, что и на вашем пути встретился человек, который произвел на вас сильнейшее впечатление.
Откуда он знает? — думал Роберт. Я никогда не рассказывал ему о Вальдштейне. Рассказывал о Рихарде Хагене, об Испании, Франции. Но о моем учителе Вальдштейне и словом не обмолвился.
— Да, произвел впечатление, такой, как он был. Именно он, из всех один-единственный. Нет, я вас не понимаю, Роберт.
С насыпи я смотрел на колонну арестантов, видел Вальдштейна, они его били. Но я никогда об этом не говорил. И все-таки он знает?
— Если женщина привязана к тебе, — продолжал Томс, — а ты к ней, ты можешь дать другой ход ее мыслям. И тогда она начнет проникать в твои. — Он раскрошил сигарету, вместо того чтобы закурить ее. — Странные вы люди. Носители идеи, какой ни у кого другого нет. Вы помышляете об изменении жизни, стараетесь вникнуть во все «почему» и «каким образом». Более того, вы не щадя своих сил боретесь за эту идею, за ее место в мировой истории здесь, к примеру, где все снаружи и внутри было грудой развалин, а вы пожелали это изменить, что вам и удается. Но когда речь идет об отдельном человеке, он для вас пень — какой есть, такой есть, — его-де все равно с места не сдвинешь.
Несколько секунд оба молчали. Первым заговорил Томс:
— Радуйся, Роберт, если эта женщина любит тебя и ждет. Я бы хотел, чтобы та, кого я люблю, так упорно ждала меня.
Роберт давно пытался вычеркнуть Лену из своей памяти. Но после этого разговора день и ночь задавался вопросом: возможно ли, что она продолжает ждать меня?
Кого же спросить, живет ли она еще в Коссине? Томаса? Он слишком молод, того и гляди расскажет своей девушке. А это было бы ему, Роберту, невыносимо. Рихарда? Нет, не станет он задавать Рихарду такие вопросы. Наконец он написал Элле Буш, ныне Элле Шанц, спрашивая, работает ли еще Лена Ноуль на электроламповом заводе в Нейштадте.
Элла побледнела, получив это письмо. Распечатывая его, она едва держалась на ногах. Но, начав читать, успокоилась, подумала: до чего же я глупа. Ведь сейчас, именно сейчас, у меня появилась надежда родить ребенка от Хейнера. Она ответила Роберту: да, Лена, как прежде, работает в Нейштадте, как прежде, живет там со своей дочкой.
Элла даже отвела Лену в сторонку и шепнула ей:
— Роберт Лозе прислал мне письмо, в котором спрашивает о тебе. — Лена ни слова не проронила. Обе женщины старались не смотреть друг на друга.
Кто же на заводе имени Фите Шульце мог спросить Роберта о Лене Ноуль? Томс, с которым они иногда виделись, не возвращался к этому разговору. И в Коссине тоже никто не спрашивал Лену, пишет ли ей Роберт Лозе.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
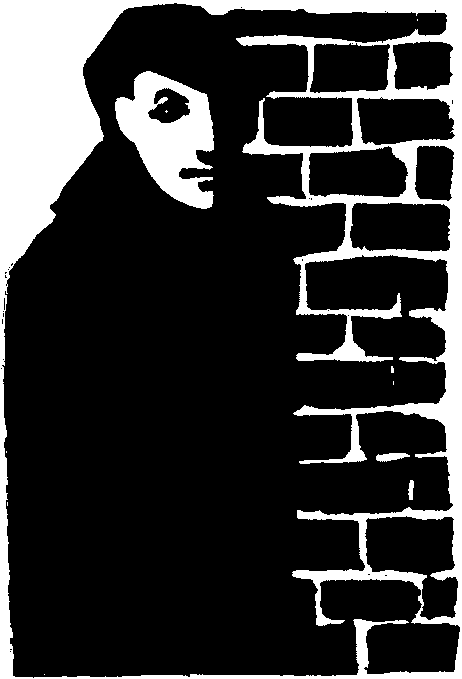
Хейнц Кёлер частенько зазывал Томаса к себе. В его маленькой квартире теперь было пусто и тихо, мать Хейнца лежала в больнице. Мебель на стальных ножках купил перед своим отъездом отец Хейнца. Он оставил жену и уехал со старшим сыном на Запад. Томас ни разу не спросил Хейнца об этой семейной драме, заметив, что тот неохотно о ней говорит. Томасу нравилось, что Хейнц, никогда за словом в карман не лазивший, охочий до дерзких шуток, молча, без единой жалобы пробивался в жизни, воодушевленный любовью к матери. У Хейнца все вечно шло вкривь и вкось, ребенком он был болезненным и слабым, часто менял школы, так как родители после войны кочевали из города в город. О подготовительных курсах он даже и мечтать не смел, не говоря уж о рабоче-крестьянском факультете. Хейнц пошел учеником на завод и был очень доволен. К тому же он сделался сильным и ловким.
Множество книг стояло на самодельных полках. Было у него также радио, патефон, всевозможные измерительные приборы, журналы по разным отраслям знаний, наследство или подарки старшего брата.
Томас взял журнал, на обложке которого была воспроизведена фотография старого морщинистого человека с короткими седыми усиками и седыми волосами, спадавшими на уши.
— Кто это? — поинтересовался Томас.
— Эйнштейн.
— Тот самый, о котором на прошлой неделе говорил Ридль?
— Господи помилуй, — воскликнул Хейнц, — неужто ты никогда ничего не слышал об Эйнштейне?
— Нет, — отвечал Томас.
Те или другие имена, не упоминавшиеся учителем, были известны Томасу лишь в связи с профсоюзными и партийными съездами или конгрессами сторонников мира. Эйнштейн ни на одном из этих конгрессов не присутствовал.
— Он уже умер?
— Да. — И Хейнц вкратце изложил то, что знал об Эйнштейне. Томас внимательно его слушал, не очень-то понимая. Однако неведомый и непостижимый мир, приоткрывшийся ему в словах Хейнца, заставил сильнее биться его юное сердце, еще более алчным сделал его голодный разум. И что бы там ни говорила Лина, он углубился в чтение.
— Почему ты столько времени проводишь с Кёлером? — спрашивала Лина. — Что ты вечно с ним обсуждаешь?
— То, что не может тебя интересовать, Лина, — отвечал Томас. — Мы говорим о книгах, которые вместе читаем. Об уроках, которые нам задает Ридль.
Природу своей антипатии к Хейнцу Кёлеру Лина поняла, когда в Берлине слушался процесс некоего Бурианека. Бурианек был главарем банды, которая по заданию американцев должна была взрывать мосты и электростанции. Бурианеку удалось занять довольно видный пост на одном промышленном предприятии.
— Мы в нашей молодежной организации, — заявила Лина, — не могли понять, как это никто вовремя его не раскусил. Знаешь, что об этом сказал твой Хейнц? Теперь и у нас есть процесс, почти как в Венгрии.
При следующей встрече Томас упрекнул Хейнца:
— Ну зачем ты несешь такой вздор?
— Какой такой вздор?
— Ты остришь над тем, что для нас черт знает как серьезно. В прошлом году, когда профессор Берндт дал деру вместе с Бютнером, ты ведь волновался не меньше других.
— Волновался, ну и что с того? — отвечал Хейнц Кёлер. — Причем тут я? Твоя Лина всем на меня наговаривает. Может, теперь и ты этим займешься?
— Нет. Ты мне не враг, Хейнц. Только слишком много болтаешь глупостей.
С того дня Хейнц старался держать язык за зубами, когда что-то его возмущало или подстрекало к остроумной шутке.
Если у них и не дошло до разрыва, то они все же друг от друга отдалились и во время совместных занятий прежней радости уже не испытывали. Томас признал правоту Лины — Эрнст Крюгер и впрямь парень надежный. Хотя он прост и бесхитростен. Вопросы, которые так живо интересовали Хейнца Кёлера, Эрнста ни в какой мере не затрагивали. Но на него можно было положиться. Да и разве не он первый обратил внимание Томаса на Роберта Лозе?
— Смотри, вот человек, который вспомнил о нас, мальчишках. И многому нас научил, когда никому до нас дела не было. — Томас говорил себе: Эрнст вовсе не тупица, его волнует решительно все, что касается производства.
Цибулка, который тем временем сделался техническим директором, привык подвозить домой своего заместителя Ридля. Он и ужинал частенько с Ридлем и его матерью.
Правда, встречались они не только для деловых разговоров. Ни у того, ни у другого не было жены. Жена Ридля умерла в прошлом году. У Цибулки, правда, была тайная подруга, почти жена, но в его коссинской жизни она никакой роли не играла, ибо так и не решилась уехать из Западного Берлина. Там ей полагалась довольно значительная пенсия, поскольку ее муж погиб в офицерском звании. До войны он служил инженером у Сименса. По смыслу его договора завод должен был обеспечить ей безбедное существование. Цибулка полагал, что Ридль, как и все в Коссине, как даже его родители, считает эту связь порванной. Однако Ридль, хоть и не подавал виду, все знал по тому то радостному — от предстоящего свидания, то мучительно тревожному — после разлуки, душевному состоянию, которое всякий раз охватывает человека, не уверенного в прочности своей любви.