— А это чего есть?
Второго зовут Ярашка. Очень часто он подходил ко мне и что-то горячо рассказывал по-лопарски. Слова этого карапуза должны были меня тронуть. И мы оба были в отчаянии: я не понимал ни слова по-лопарски, а он — по-русски.
Девочка Анфис предпочитала держаться в стороне. Она относилась к нам с равнодушием человека, которого занимают вещи гораздо более интересные, чем какие-то долговязые гости из-за озера. Например, великолепное деревянное ружье, лыжи, консервная банка— особенно занятная игрушка. На банке был нарисован странный толстый олень с большой головой и короткими некрасивыми рогами. Рассматривая картинку, Анфис думала о далеком-далеком, совсем другом мире, в котором живут такие странные олени с толстой головой, вкусное мясо в банках называлось коровьим. Но что такое корова, как не олень, только не похожий на тех, на которых приезжал на Монче-губу дедушка? Ведь не медведь же она! И не лиса! И не выдра!
Федот, Ярашка и Анфис — настоящие северяне. Из избушки, где жарко от горящего камелька, они отправляются гулять не одевшись на улицу, на тридцатиградусный мороз, спят на голом полу, из-под которого дуют настоящие поземки. Никакая простуда не возьмет этих маленьких лопарей.
В день нашего приезда на Монче-губу была пурга. Вершины тундр курились облачками белого дыма, и лес, закутанный в широкую белую развевающуюся одежду, плясал какой-то сумасшедший танец. Нельзя было никуда итти, и это был день расспросов и рассказов.
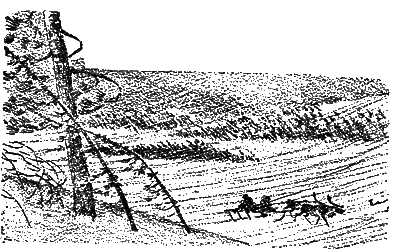
Мы узнали последнюю таежную новость: пропал человек. Ушел на неделю за Чуна-тундру, в дальние леса, и вот уже месяц, а до сих пор человек не вернулся. Его ищут. Но где искать, когда каждый может охотиться, где ему нравится и когда пурга замела все следы!
— Что же с ним могло случиться? — спрашиваем мы.
И Федор, сидя на низенькой скамеечке у самого камелька, который порывисто освещает его лицо, рассказывает в ответ кое-что из своей богатой приключениями лесной жизни:
— Я жил тогда на Лоте. Это река, которая течет из Финляндии и впадает в Ного-озеро. Жил с отцом. Он всегда жаловался на плохую охоту. Да, это были плохие края. Теперь там охотники больше не живут. Все перебрались на восток — на Ноту, на Гирвас, на Вулозеро. Но на Лоте жил отец моего отца, дед его, и поэтому и мы всё жили и жили на этом пропащем для охотника месте, словно боялись покинуть насиженные края. Я был еще мал и разве только куропаток мог как следует промышлять, когда наступила Мертвая Зима.
Любой охотник вам расскажет о том голоде, который терпели тогда. Звери как будто все вымерли. На снегу — ни одного следа. Белка и та несколько месяцев не заглядывала к нам на Лоту. Да не только к нам; Мертвая Зима захватила чуть ли не всю Лапландию. Говорили, что звери ушли в Норвегию. Но почему они ушли туда, никто не мог понять. Пожаров лесных в ту пору не было, зима стояла снежная, крепкая, испугаться охотников звери не могли, потому что охота у нас шла тихо, и бывало не редкость встретить в лесу волка, который и ружья в глаза не видал: убегает не спеша, как будто не пулей ему грозят, а палкой.
Так вот, в эту Мертвую Зиму, когда приходилось нам есть березовую кору и дятлов, отец нашел в лесу на косогоре медвежью берлогу. Она была вся занесена снегом, и никогда бы ее не найти, если бы, проходя мимо на лыжах, отец случайно не ткнул палкой как раз в самое горло берлоги.
Помощником отцу мог быть только мой старший брат. Но и тот был молод, никогда в трудной охоте еще не бывал. Отец долго думал, боялся будить медведя с таким молодым охотником, и не будь эта зима такой плохой, наверное бы не пошел. Но голод заставит забыть всякую осторожность. И рассказав, где их искать в случае чего, отец зарядил ружье, взял с собой хорей с острым костяным наконечником и ушел вместе с братом.
В то время медведя поднимали из берлоги по-старинному. Один охотник вставал на колено сбоку у входа в берлогу, клал себе на плечо конец крепкой жерди, а другим концом втыкал ее в снег на противоположной стороне входа. Потом он всовывал в берлогу хорей, нащупывал медведя и будил его, пропоров острием шкуру. Когда рассерженный медведь начинал вылезать из берлоги, охотник быстро поднимался и жердью прижимал голову зверя к верхнему краю отверстия. А в это время другой охотник, стоявший против берлоги с ружьем на-изготовку, стрелял. Трудней всего было прижать во-время медведя. Но и помощник должен был быть метким стрелком, потому что держать медведя жердью можно лишь недолго. Зверь скоро вырывается и идет на людей.
Так же будили медведя и отец с братом. Отец стал сбоку с лесиной на плече и с хореем и наказал брату стрелять, как только медведь застрянет в отверстии. Пырнул он хореем раз — другой, зверь заворчал и полез из берлоги. Отец поднял лесину. Но тут-то вот и случилось то, чего всегда боятся охотники, не видавшие берлоги еще до снега с осени. Оказалось, что медведь устроил свое логово под муравейником. И когда жердь его под горло прижала, он через верх, разворотив мягкую землю, и выскочил. И прямо на отца. Брат перепугался досмерти и, вместо того чтобы стрелять, бросил ружье, повернулся и — вниз, подгору, наутек. Но не далеко он убежал. Впопыхах наехал на куст, упал, запутался с лыжами, и медведь его здесь и нагнал. Так я и нашел их обоих на косогоре у самой берлоги. У отца вся кожа с головы была содрана, а у брата руки и ноги переломаны. Отец на другой день умер, а брат три месяца лежал; все кости у него срослись, но охотник он теперь слабый. И боится…
Потеряв отца, мне пришлось самому взяться за промысел. Через несколько дней после несчастья, блуждая по лесу, я нашел куньи следы. Я так обрадовался, — ведь сколько времени мы не видели пушнины, — что даже не вернулся домой за провиантом. Как был налегке, так и пошел по следу. Привел он меня на тундру, к узкой щели между камнями. «Здесь ее логово», — подумал я.
Развел на камнях костер, лег перед ним на живот и ну — вдувать в щелку дым. А сам все жду: выскочит зверь, я его здесь и прихлопну. Однако пролежал я перед костром часа полтора, а куницы все нет и нет. Встал, обошел камень кругом и увидал, что куница ушла через другую щель. Недолго думая, погнался за ней дальше.
Шел я целый день. По следам видел, что куница шла совсем близко передо мной, но догнать ее не мог. Когда стемнело, разложил костер и кое-как около него переночевал. С утра есть хочется. Да так, что готов и куницу бросить, только бы чего-нибудь съестного раздобыть. На счастье увидел глухаря. В тот день был сильный ветер, деревья качались словно тростник на болоте, и я пятнадцать к ряду выпустил к ряду, не вставая с колена, пока свалил наконец птицу. Перекинул ее через плечо и решил на первой же ложбинке, где не будет такого ветра, ощипать ее и изжарить.
Но пройдя немного, увидел, что у меня есть соперник. Следы показывали, что большой одинокий волк охотится за той же куницей.
«Некогда жарить глухаря, — решил я. — Если потороплюсь, кроме куницы еще и волка может быть промыслю». — И побежал дальше.
К вечеру второго дня волк загнал куницу в скалы. Утром я застал его на посту перед глубокой расщелиной. Он выжидал. Но услышав меня, вскочил и спрятался в лесу. Я поковырял палкой в расщелине: никого нет. Куница обманула и волка и меня. Она и здесь нашла другой выход.
Это была какая-то шалая куница. Она наверное случайно попала к нам на Лоту, увидела, что здесь никого из зверья не осталось, испугалась и бросилась удирать. Я понял, что ее мне не поймать. Куница останавливалась на ночь в камнях и уходила из них еще в темноте, раньше чем я мог устроить на нее облаву. А здесь еще она прошла по крепкому насту на вершине тундры и я потерял следы. Нужно было возвращаться.
Со мной не было компаса, но по деревьям я знал, что все три дня куница вела меня на запад. Да и по сбоим лыжным следам я надеялся легко найти обратную дорогу. Голода не боялся: мне удалось подстрелить пару больших куропаток.