— С Новым годом, Марлена Георгиевна. Неужели дежурили?
— Дежурила.
— Ох, как не повезло! Сегодня работать тоже никакого удовольствия, но я хоть потанцевала вволю!
Рыбаша нет. Марлена оглядывается. К ней спешит Наумчик. У него очень возбужденный вид.
— Леночка, ты знаешь, как Фэфэ…
— Знаю, знаю, — говорит Марлена.
— Рыбаш рассказывал? — Наумчик даже не задумывается, когда Марлена могла видеть Рыбаша. — Ну и старик! Бог, а не хирург… Жаль, что ты не видела своими глазами… Слушай, Лена, чуть не забыл! Идем сегодня со мною в Дом кино, на просмотр…
Он вытаскивает приглашение. Марлена неуверенно начинает:
— Наумчик, я, собственно…
— Она уже приглашена, Наумчик! — подойдя, весело объявляет Рыбаш и просовывает руку под руку Марлены. — Приглашена на этот просмотр и… вообще на все просмотры в жизни.
— К-как?
У Наумчика такое растерянное лицо, что Марлене делается его жалко. Очевидно, и Рыбаш чувствует, что удар нанесен в самое сердце.
— Наумчик, — серьезно говорит Рыбаш, — я к вам очень хорошо отношусь и потому хочу, чтоб вы первый узнали: мы с Марленой скоро поженимся. Очень скоро! — несколько угрожающе доканчивает он и, не отпуская руки Марлены, твердым шагом идет к выходу.
Длинный, несчастный Наумчик изумленно смотрит им вслед.
Из окошечка справок его с любопытством разглядывают лазоревые глаза Раечки.
— Наум Евсеевич, — вкрадчиво говорит она, — неужели у вас правда есть лишний пропуск на просмотр? Мне так хочется увидеть этот фильм!
Гонтарь поворачивается к девушке. Какие печальные, какие умоляющие голубые глаза!
— П-пожалуйста, — машинально говорит он, — п-пожалуйста, если вам так хочется… П-пойдемте вместе!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
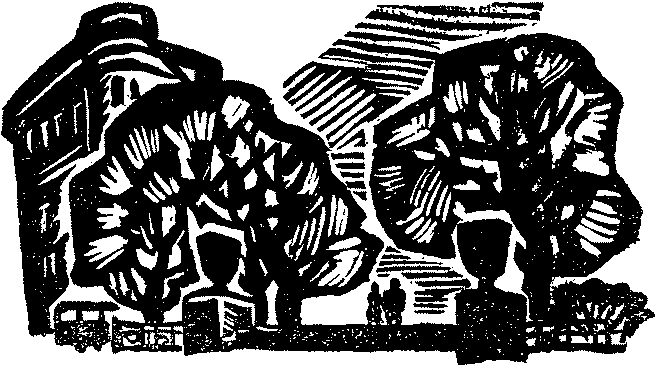
Жизнь больницы складывается из грустных встреч и радостных расставаний. Тот, кого привозят в больницу, всегда встревожен, страдает, ждет плохого. Тот, кто покидает больницу, счастлив своим выздоровлением, благодарен за помощь, жмет руки врачам и желает остающимся всего, всего хорошего. Не каждого, конечно, можно вылечить так, чтобы навеки забыл о своей болезни, но почти каждый выходит из больничных дверей с праздничным чувством освобождения.
Для Марлены и Рыбаша январь становится месяцем очень памятных прощаний. Из терапевтического отделения первым, сразу после Нового года, выписывается Горнуш. За ним приехали на машине товарищи с той фабрики, которой он передавал опыт закарпатской гнутой мебели. Приехали с добротной шубой и валенками. Горнуш растроган до слез и то кидается к Лозняковой и Марлене, чтобы мягким украинским говорком объяснить им, как он до конца дней своих будет вспоминать добрых московских докториц, то умоляет товарищей с фабрики забрать свои валенки, «до которых он вовсе не привычен».
Затем выписывают Федосееву. Ее ветреную дочку предупредили за два дня, что мать выпишут в одиннадцать утра, но и в половине первого Марлена, проходя по коридору отделения, видит тоскливо ожидающую Федосееву возле столика дежурной сестры. Марлена многозначительно переглядывается с сестрой. Дежурит та самая чернявая Лизочка, которая помогала Лозняковой, когда умирал Сушкевич. Этой же Лизочке в ее последнее дежурство досталась нелегкая задача — отвозить домой Марью Акимовну Лисицыну, пожилую женщину, за которой никто не пришел.
Марья Акимовна, узнав, что ее выписывают, долго плакала и все уверяла, будто печень опять «разыгрывается», но Юлия Даниловна в конце концов резко сказала: «Не прибедняйтесь, пожалуйста!» — и назначила на выписку.
Лисицына попала в больницу еще в ноябре. У нее хроническая болезнь печени, и приступ был тяжелый. Перед Новым годом Лознякова, да и все остальные врачи отделения говорили, что практически Марья Акимовна уже здорова, а коек в отделении всегда не хватало. Все-таки Новый год старуха провела в больнице. Лознякова, никогда не забывавшая о домашних обстоятельствах своих больных, знала: у Лисицыной три взрослые, замужние дочери, и она попеременно живет у каждой.
Правда, мать они посещали не часто, но всех трех известили по телефону и открытками, что мать выздоровела ее надо забрать такого-то числа. Однако ни одна из трех дочерей за старухой не явилась.
Дежурила сама Лознякова. Она добилась, чтоб Лисицыну накормили обедом, хотя кухня уже сняла ее с питания, а после обеда снарядила Лизочку отвезти Марью Акимовну домой на санитарной машине.
Лизочка отсутствовала почти четыре часа и вернулась обратно с Марьей Акимовной. Ни одна из дочерей матери не приняла. У Лизочки от возмущения прыгали губы, когда она рассказывала, как они катались по городу и как каждая из дочерей давала адрес другой, объясняя, что взять к себе старуху не может. Первая, жена военного инженера, не пуская Лизочку дальше передней, сообщила, что завтра уезжает с мужем на курорт и что ни в коем случае не оставит старуху одну в квартире: «Она все забывает, вдруг выйдет и не закроет двери… Нас обворуют! Нет, нет, и не просите!» Нарядная, с туго закрученными локонами, она крикливо повторяла: «Какое право имеет больница выписывать такую больную! Вы обязаны держать ее до полного выздоровления!»
— Да она же совсем здорова! — уверяла Лизочка.
— По-вашему, здорова, а по-моему, больна! — объявила дочь и, даже не спустившись к машине, в которой дожидалась испуганная Марья Акимовна, сунула Лизочке адрес младшей сестры, которая «вполне может» принять мамашу.
Но младшая дочь замахала обеими руками:
— У меня дети, у меня крошечная комната, мне даже на одну ночь положить ее некуда. Везите к Наташе — она только что получила отдельную квартиру, я дам адрес.
Наташа, средняя из трех дочек Лисицыной, жила в Измайлове. Шофер, ругаясь сквозь зубы, долго плутал по новопроложенным улицам, пока наконец нашел нужный дом. Лизочка, опять оставив старуху в машине, поднялась на седьмой этаж. Лифт еще не действовал. Звонки тоже. Из-за двери доносился веселый разноголосый шум, играли на баяне. Лизочка еле достучалась. Открыл вдребезги пьяный тучный мужчина, который долго не мог понять, чего хочет Лизочка, а поняв, крикнул что-то в глубь квартиры, где веселились и пели. Никто не отозвался. Тогда он, буквально вытолкнув Лизочку на лестницу и объявив: «У нас новоселье, неужели не ясно?», захлопнул дверь. Лизочка, покраснев от злости, принялась снова стучать. Наконец дверь приоткрылась. Какая-то заплаканная женщина быстро-быстро зашептала: «Ради бога, уезжайте, муж совсем захмелел, грозится, что и меня и мамашу пристукнет!..» Лизочка растерялась, а женщина, воспользовавшись этим, закрыла дверь, и было слышно, как она говорит кому-то: «Не обращайте внимания, это ошибка, не к нам!»
Лознякова выслушала этот горький рассказ молча. Марью Акимовну положили на запасной кровати в коридоре — ее место в палате уже было занято. Наутро Юлия Даниловна позвонила в партком той организации, где работал муж старшей дочери. А через три часа за Марьей Акимовной явился и сам зять, военный инженер, и его жена, старшая дочь Лисицыной. Оба были угодливо-любезны и твердили, что отказались от курорта, поскольку их дорогая мамаша, оказывается, выздоровела. Разговаривал с ними Степняк. Он выслушал все уверенья и хмуро пообещал:
— Помните: в случае чего — неприятностей не оберетесь. Я ручаюсь.
Теперь Лизочка, с опаской косясь на пригорюнившуюся Федосееву, переглядывалась с Марленой. Но дочь Федосеевой, хоть и с двухчасовым опозданием, все-таки явилась. Она была смазливенькая, с выпуклыми, чересчур честными серыми глазами. Лоб у нее был низкий, нижняя часть лица тяжелая. Марлена сухо спросила:
— Почему опоздали?
— Сама ходила в поликлинику, — быстро сказала та.
Марлена подумала, что девушка говорит неправду, но, взглянув на повеселевшую Федосееву, промолчала. Федосеева долго благодарила всех за внимание и заботу, а дочка торопила:
— Давай, давай, не канителься, у меня еще двадцать дел…