— Моя жена. Профессор Мезенцев, — сказал Степняк.
Надя, слегка улыбнувшись, протянула руку:
— Я так много слышала о профессоре Мезенцеве…
Федор Федорович склонился над протянутой рукой и, выпрямившись, пристально, со спокойным вниманием оглядел обоих.
— Счастлив познакомиться. Знаете, Илья Васильевич, вы отлично танцуете…
Почему-то смутившись, Степняк сделал неопределенный жест:
— Это заслуга Надежды Петровны.
— Полагаю, что далеко не единственная?
Мезенцев и разговаривал и держался с приятной непринужденностью. Надя, по-прежнему улыбаясь, возразила:
— Ох, не знаю! Мужья редко отдают должное женам…
— Мужья боятся за свои сокровища.
— Вы тоже?
Мезенцев чуть-чуть усмехнулся:
— А я, Надежда Петровна, больше всех. И поэтому никогда не был женат.
— Никогда?! — Степняк вспомнил, как мысленно рисовал себе жену Мезенцева, и детей, и собаку. — Неужели никогда?!
— Вообразите, Илья Васильевич, никогда. Убежденный холостяк.
Музыка кончилась. На эстраде появился тот же конферансье.
— Товарищи, сядьте, сядьте, — сказал кто-то сзади Степняка, — загораживаете эстраду…
Степняк растерянно оглянулся. Они оказались возле самой эстрады, и к их столику надо было возвращаться, мешая всем, на другой конец зала.
— Садитесь с нами, — быстро сказал Мезенцев и, видя, что Степняк колеблется, добавил: — Нас всего двое, старых холостяков!
Тот, кого Мезенцев называл старым холостяком, оказался известным театральным режиссером, — о его влюбчивости и непостоянстве ходили легенды. С преувеличенным восторгом он расшаркался перед Надей, предлагая ей вино, коньяк, икру, фрукты и пломбир одновременно. Надя, сдержанно посмеиваясь, подвинула узенькую ликерную рюмочку, чтоб режиссер налил ей коньяка.
— Кто же пьет коньяк ликерными рюмками? — всерьез огорчился режиссер. — Коньяк полезен, он расширяет сосуды. Можете справиться у Федора Федоровича.
— Вы пьете только под врачебным присмотром?
— Только! — решительно сказал режиссер.
— Тогда вы поступили очень благоразумно, пригласив к столику нас.
Режиссер сделал испуганное лицо:
— Ваш супруг тоже врач?
— Хирург. И я, вообразите, тоже…
Степняк прислушивался к их тихой болтовне, заставляя себя смотреть на эстраду. Там происходило что-то забавное, но он никак не мог сосредоточиться. Почему-то ему было неприятно, что Надя и режиссер говорят вполголоса, хотя он понимал, что говорить громко рядом с эстрадой было неприлично. Фэфэ, наклонясь к уху Степняка, сказал:
— Здесь все-таки значительно лучше, чем в любом ресторане. Главное — однородная и воспитанная публика.
— Конечно, конечно, — пробормотал Степняк, мучительно соображая, как бы поскорее избавиться от этого режиссера, и неожиданно для самого себя спросил: — А вы-то почему сюда попали, Федор Федорович?
Светлые глаза Мезенцева насмешливо блеснули:
— Да, вероятно, потому же, почему и вы, дорогой коллега. Пригласил один благодарный пациент, которого мне посчастливилось не зарезать!
Степняк почувствовал, что краснеет. Нет, видно, публика здесь не совсем однородная и, главное, не столь уж воспитанная, если принять во внимание его собственный дурацкий вопрос.
— Я сморозил чушь, — искренне признался он, — просто удивился, что вы вдвоем с приятелем, без дам…
Мезенцев невозмутимо ответил:
— Так спокойнее. Дам надо провожать, а дамы, которых провожают, почему-то обязательно живут на другом конце города… Что же касается танцев, — он неприятно усмехнулся, — партнерш достаточно. Не все же мужья танцуют так, как вы, Илья Васильевич.
Номер на эстраде кончился, и конферансье заботливо посоветовал:
— Не теряйте времени, товарищи, веселитесь! А то мы опять что-нибудь покажем…
Степняк с облегчением повернулся к Наде, но тут заиграла музыка. Надя поднялась, кладя руку на плечо режиссера, который в почтительном поклоне уже стоял перед ней.
— Подумать только! — притворно удивился Мезенцев. — Даже хорошо танцующие мужья не гарантированы от происков убежденных холостяков!..
ГЛАВА ШЕСТАЯ
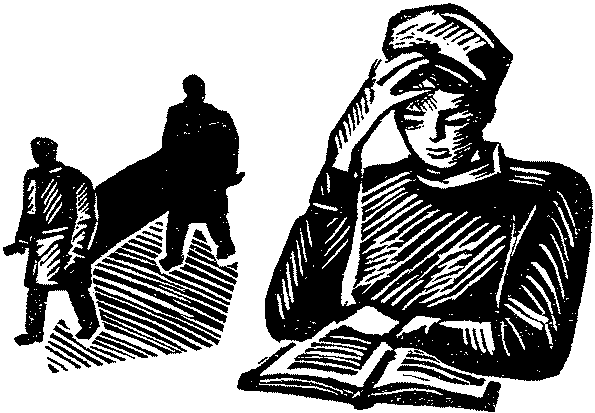
Тридцать первого больница затихла к семи часам вечера.
В ординаторской терапевтического отделения тепло, светло, чисто. Дежурство обещает быть спокойным. Юлия Даниловна, пожелав Ступиной счастливого Нового года, сказала перед уходом:
— Вы умница, Марлена, что не пробовали ни с кем перемениться. Новогодние дежурства бывают очень интересными.
Марлена уже настолько изучила Лознякову, что знает: та называет ее по имени, когда все в порядке. Но почему у Юлии Даниловны лицо серьезное, а глаза смеются? И что она имеет в виду, говоря об интересных новогодних дежурствах? Неужели Лознякова догадывается?
Приложив ладони к щекам, Марлена сидит у письменного стола, возле телефона. Как может Лознякова догадываться о том, в чем Марлена еще не призналась самой себе?
Ну хорошо, она часто встречается с Рыбашом. Даже очень часто — почти каждый вечер. Ходит с ним в кино и в театр. И на каток. Но, во-первых, это никого не касается, а во-вторых, мало ли с кем бываешь в театрах и занимаешься спортом… Наумчик, например, уже третье воскресенье зовет ее в Измайлово походить на лыжах. Разве она отказывалась? Правда, каждый раз что-нибудь мешало, но ведь могла и поехать?.. В прошлое воскресенье совсем уже собралась, договорилась с Нинель Журбалиевой, что та захватит мужа и сына, но в последний момент прогулку пришлось отменить: позвонил Рыбаш и непререкаемым тоном объявил, что они идут на дневное представление в цирк. Там последний день показывают какую-то удивительную водяную пантомиму. В цирке Марлена не была с детства, и, когда сказала об этом Рыбашу, тот ответил:
— Тем более!
— Что — тем более? Я вовсе не скучаю без акробатов и зверей.
— А я говорю: тем более надо пойти!
И, хотя Марлена сердито объяснила, что она уже договорилась с другими о лыжной вылазке и вовсе не обязана подчиняться всем выдумкам Рыбаша, он даже как будто и не заметил ее возражений:
— В общем, без четверти два у входа в метро «Павелецкая».
Она со злостью бросила трубку, но через пять минут принялась названивать Нинель и Наумчику и неискренним голосом плела какую-то чепуху о неожиданно изменившихся обстоятельствах и очень срочном, неотложном совещании. Даже отчим, который никогда не вмешивается в ее дела, насмешливо поинтересовался:
— Требуют, чтоб пришла в больницу?
Она с вызовом ответила:
— В цирк.
Отчим отложил газету, снял очки и очень добродушно посоветовал:
— Так сочиняй поумнее. А то ведь всякому ясно.
Неужели действительно всякому ясно? Неужели Юлия Даниловна тоже подразумевала это?
А что, собственно, это? Она ни словом не обмолвилась Рыбашу, что ей предстоит дежурить в новогоднюю ночь. Наоборот, когда он строил планы новогодней встречи, она упрямо отвечала, что ресторанов не любит и вообще ничего еще не решила. Много, мол, вариантов, и она выберет в последнюю минуту. И пусть он не рассчитывает, в компанию своих старых друзей она его не потащит.
— Зачем нам компания? Встретим вдвоем.
— Только этого не хватало! Я и так имею удовольствие ежедневно видеть вас…
Сказала и испугалась: а вдруг всерьез обидится?
Но Рыбаш посмотрел на нее своими плутоватыми глазами и кротко согласился:
— Я тоже считаю это удовольствием!
Тоже! Скажите пожалуйста, какая самонадеянность!
Конечно, он мог заранее посмотреть график. Но тогда к чему были все эти бесконечные разговоры? Если ему действительно так важно провести эту новогоднюю ночь с нею, он мог бы предложить дежурить вместе. И доставить ей приятную возможность гордо отказаться: больница, дескать, не клуб, не ресторан и не личная квартира. Но он ничего не предложил и вообще в последние дни ни о чем не спрашивал. И вдруг сегодня утром, когда она принимала от Нинель смену, принесли утвержденный Степняком график праздничных и предпраздничных дежурств. Она хотела расписаться не глядя, но не вытерпела, взглянула в графу «хирургия». И увидела: чья-то фамилия густо зачеркнута, а сверху напечатано: «А. З. Рыбаш». Значит, он устроил это в последнюю-распоследнюю минуту, чтобы быть уверенным: уже ничто не изменится.