На другом холсте я рассмотрел берег, скалу, море.
Я сразу их узнал. Это был наш Ланжерон, также прямолинейно и грубо намазанный широкой жесткой кистью, вероятно сделанной из свиной щетины, так как одна щетинка даже прилипла к сине-голубым полосам полуденного моря, и я не смог ее отодрать, так крепко она присохла. Берег был светлого, несколько кремового, телесного цвета, от каждого написанного камушка ложилась короткая густая тень, и скала тоже отбрасывала лиловую короткую тень, так что во всем этом я ощущал полуденный приморский зной, как бы чувствовал раскаленную гальку и песок, обжигающий подошвы босых ног, даже слышал запах засохшей тины, и в море штиль, и одуряющее сияние.
Так перед мною впервые возникло чудо живописи.
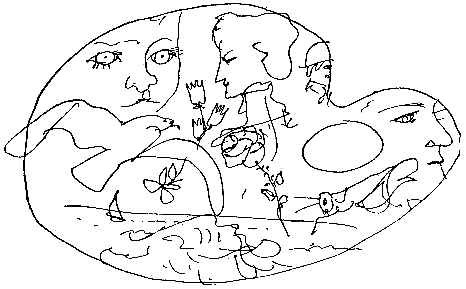
Как я понимаю теперь, эти две картинки без рам попали к нам в дом случайно. Что-то помнится, будто мама водила меня на Ланжерон и там два ученика художественного училища делали этюды, познакомились с нами и впоследствии подарили маме на память свои работы.
Смутно помню их серые байковые косоворотки и головы с длинными русыми волосами, разваленными на две стороны. У них был очень простецкий вид. Меня поразили их ящики с мятыми тюбиками масляных красок, палитры, покрытые разноцветными мазками, цинковые сосудики для лака и льняного масла и, конечно, небольшие складные мольберты, а в особенности громадные полотняные зонтики, по которым пролетали голубые тени чаек…
В общем, теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня…
Но почему же, почему я до сих пор не могу забыть эмалированную миску густо-синего цвета, с грубыми следами дешевой кисти и отражением окна и серо-лиловой спиралью картофельных очистков и почему до сих пор не могу я забыть июльский полдень на берегу Ланжерона, маму в чесучовой кофте, раскаленную гальку, обжигающую мои голые ножки, и воздушно-голубые тени чаек?
Театр.
Был период увлечения театром, но не настоящим, а игрушечным, раскладным, который мне дарили на елку или в день рождения в красивой коробке, украшенной цветными картинками, — сценами спектакля, заключенного в этой коробке:
…картонная сцена с красивым занавесом, кулисами, декорациями и фигурками действующих лиц, которые можно было расставлять и передвигать, как шахматы.
Это была преимущественно опера или какое-нибудь историко-патриотическое представление вроде обороны Севастополя или волнующих эпизодов из жизни великого русского полководца Суворова, где будущий генералиссимус являлся сперва в виде молодого рядового солдата, часового, стоящего на посту у царского дворца, и где разыгрывалась его сцена с императрицей. Сцена эта состояла в том, что вышедшей на крыльцо императрице очень понравился бравый, смышленый часовой в парике с косой, висящей из-под медной шапки, в белой амуниции, с ружьем, взятым «на краул». Государыня протягивала ему в награду за бравую службу большой серебряный рубль. Но Суворов отказывается его принять, отрапортовав своей матушке-царице, что часовому запрещается принимать что-нибудь, стоя на посту; на это государыня, в белом парике, фижмах, с голубой андреевской лентой через плечо и бриллиантовой звездой на выпуклой груди, дама строгая, дородная, с двойным подбородком, хвалила молодого часового за отличное знание устава и милостиво клала серебряный рубль на землю у его ног, с тем чтобы он мог после смены караула взять этот рубль себе в награду за хорошую службу.
«Слушаюсь, ваше императорское величество, государыня-матушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость».
Так было напечатано в особом листке объяснений.
А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, полосатую будку часового и кулисы в виде выглядывающих одна из-за другой картонных полос с яркими изображениями царскосельских деревьев, а в глубине сцены — неподвижная картина царскосельских прудов с белоснежными лебедями.
Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный занавес, искусно разрисованный парчовыми складками, и любовался зрелищем театра, причем особенно волновала меня маленькая раковина суфлерской будки.
В сущности это была всего лишь немая неподвижная картина, лишенная человеческих голосов, движения и музыки, но даже ее неподвижность и тишина и косое, теплое освещение придавали ему характер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу кулис и верхних софитов.
Полюбовавшись сценой, надо было опустить нарядный занавес с парчовыми складками, кистями и желтой лирой посередине и начать устанавливать следующие сцены, из которых самая красивая и волнующая была переход Суворова с его чудо-богатырями через Чертов мост: снежные вершины Альп, пропасть с дымящимся на дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушка и маленький старичок — Суворов, с серым хохолком над узким костлявым лбом, на лошади, с обнаженной шпагой в руке, кричащий:
«Вперед, мои чудо-богатыри!» —
что было также напечатано в объяснении к этой сцене.
Сперва в театре меня увлекала только техника зрелища, устройство сцены, механизм подъема занавеса, расстановка декораций и фигурок действующих лиц, вырезанных из картона, искусственное боковое освещение, суживающаяся перспектива кулис.
Я наслаждался живописной стороной спектакля: сводчатыми потолками каких-то боярских пиров с братинами, дубовыми столами, жареными лебедями на блюдах, кокошниками и уборами древнерусских красавиц, боярами в высоких собольих шапках, в аксамитовых кафтанах, ферязях, витязями в стальных кольчугах и шлемах, белобородыми кудесниками и гуслярами, монахами и разбойниками с кистенями в руках, посреди дремучего леса, в чаще искусно вырезанного из картона ельника…
Меня до слез волновал снег, опускающийся густой сетью на мужественного старика — Ивана Сусанина, сидящего на пне, в то время как польские сивоусые гусары стояли вокруг него с поднятыми кривыми саблями.
В восторг приводила меня громадная голова из «Руслана и Людмилы», ее раздутые ноздри, откуда вылетали тучи сов, и — конечно! — летящий по воздуху карлик Черномор с развевающейся длиннейшей бородою, держа в объятиях несказанно прекрасную Людмилу в русском сарафане и кокошнике, как у кормилицы, с белым, обморочным лицом и закрытыми глазами…
Впоследствии я видел то же самое на настоящей сцене, когда нас водили на праздничные утренники в городской театр, где, кроме магии декораций и скрытого освещения, была еще магия оркестра, музыки, пения, передвижения по громадной сцене, откуда в жарко натопленный зрительный зал дуло со сцены холодным ветром, богато одетых, загримированных до неузнаваемости людей — артистов, которые при свете рампы казались мне удивительно дисциплинированными и движущимися как бы по какому-то расписанию вроде расписания поездов.
Дома я пытался своими средствами на самодельной игрушечной сцене устраивать подобия этих спектаклей с красными пожарами и синими лунными ночами (как в «Аиде»), всегда напоминавшими мне лунные ночи на Ланжероне, где Черное море из края в край блестело как бы светящейся серебряной бумагой — ни дать ни взять Нил, только не хватало черных силуэтов пирамид и пальм.
Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет.
Для этого надо было купить двухкопеечную шоколадку, завернутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и через нее пропустить луч свечи на мои самодельные декорации, казавшиеся мне прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно-синим. Для пожара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном желатиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желатиновой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шоколада. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для того чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой, необходимой мне для сценических эффектов.