Френчи Коут отвозил Джо на выходной в Симко, и я поехал в город вместе с ними. За сушилками наблюдал Курт.
В Симко я провел горестный вечер. Я заходил в пивные, но не в силах был выносить смеха. Чем больше я старался забыть своего друга, тем больше думал о нем. Я не сомневался, что Ханки был прав, когда сказал, что пройдет не одна неделя, пока мы получим заработанные деньги. Мне пришла мысль заявить на Вандервельде, но я решил, что это бессмысленно. Кто в пору уборки, в сердце страны табака, прислушается к батраку-неудачнику? Это кончится тем, что меня обвинят в бродяжничестве.
Я пошел к самогонщику и купил две бутылки дрянного виски, одну я выпил тут же. В голове у меня вертелись слова Ханки. «Никогда я не знал хорошей жизни, Джордж». Мучительный крик души униженной половины человечества.
Я вышел на шоссе со своей бутылкой и остановил машину, которую вел молодой парень, ехавший в Сан-Томас. Он высадил меня на развилке, где от шоссе дорога вела на север к ферме Вандервельде. Я выпил вторую бутылку виски и направился к ферме. Мною владела боевая, вызванная опьянением идея сказать в лицо хозяину, что мне все известно, потом посмеяться над ним, как он смеялся над Ханки.
Я пересек поле и уже совсем близко от двора заметил шедшую по тропинке Мэри. Я спрятался в изгороди и увидел, что навстречу девушке идет Курт. Потом они вдвоем пошли к полю, ее рука лежала у него на поясе. Все они подлые, винить одного Морица мало. За Ханки я должен им всем отомстить.
Спустя полчаса я вернулся на стык проселочной дороги с шоссе и подождал Френчи. Я подал знак, и он остановил машину. Я сказал Френчи и Джо, что меня довез до этого места парень, ехавший в Сан-Томас.
Мы почти достигли фермы, когда нам встретился Курт. Он бежал по дороге, то и дело оглядываясь через плечо. Тогда-то мы и заметили беловатый столб дыма над двором фермы.
Мы затормозили рядом с пожарной машиной, приехавшей из небольшого городка к югу от фермы. Две сушилки и амбар выгорели, уцелела только частица пола амбара, и все еще курился остов автомобиля Вандервельде. Джо выскочил из машины и заглянул в топочные коробки трех других сушилок — у всех до предела были отвернуты краны, вытекший мазут загубил табак.
Начальник пожарной охраны сказал Морицу, что огонь перекинулся от сушилок на амбар. Никто ему не возразил, однако я знал, что ветер дул с противоположной стороны.
Миссис Вандервельде и Мэри всхлипывали в дверях кухни, со страхом глядя на Морица, а тот стоял посреди двора и больше уже не смеялся — он то раскрывал, то закрывал свой жирный рот, как выброшенный на сушу карп.
Утром, когда все еще спали, я прошел по задворкам между выгоревшим амбаром и потрескавшейся, с разбитыми стеклами оранжереей. На земле лежал полусожженный клочок документа. Наклонившись, я прочитал вписанное в графу начало имени: «Станислас Цим…» Я вдавил башмаком бумажку в землю. В некотором смысле ее можно было считать эпитафией Ханки. Но разве этого достаточно?
Мадлен Гранбуа
Озеро Красного Червяка
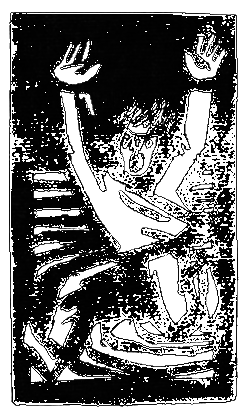
Папаша Матье снял шляпу, старую бесформенную шляпу, усаженную «мушками» всех цветов: белыми, красными, золотисто-коричневыми, голубыми, точно кусочек неба, ярко-желтыми и черными, как сама ночь. Он выбрал маленькую серенькую мушку с тем же отливом, что крылья стрекоз, скользивших в тот день над поверхностью воды, и старательно прикрепил ее к концу моей лесы. Потом, торопливо оглядевшись, сунул руку в карман, вытащил клейкую приманку, ловким движением насадил ее на крючок и, довольный своей работой, протянул мне удочку, ободряюще ухмыляясь.
Я принялся за дело. Честно говоря, рыбная ловля никогда меня особенно не прельщала, и сейчас я с удовольствием пустил бы лодку по течению, а сам бы мирно отдыхал, как деревья с их словно застывшей листвой, как неподвижное гладкое озеро.
Но доктор Плурд рассудил по-другому.
— Мертвый сезон — лучшее время для рыбной ловли, — наставительно сказал он, когда несколько часов назад мы выгружали пожитки на дощатый настил Клуба Галет.
Мы приехали туда ненадолго, но это маленькое путешествие было заранее подготовлено и тщательно организовано моим старым другом. Не успел я переступить порог его дома, как он начал описывать ни с чем не сравнимые восторги, светлые радости и дивные наслаждения, ожидавшие нас в Клубе.
В дорогу мы отправились хмурым серым утром, но кипучему энтузиазму моего друга все было нипочем, а когда на опушке леса ветер донес до нас аромат барбариса, доктор Плурд и вовсе потерял голову. Возбужденный, помолодевший, добродушно посмеиваясь, он принялся напоминать папаше Матье, нашему проводнику, о доблестных подвигах, которые они вместе свершили в былые времена. У него так и чесались руки поскорее взяться за дело. Едва мы успели добраться до охотничьего домика, как он, не теряя ни секунды, объявил самым категорическим тоном:
— Поверьте моему опыту, дети мои, погода сейчас самая подходящая, можно сказать идеальная для рыбной ловли. Давай-ка, папаша Матье, готовь поскорее удочки и быстро на озеро, пока не стемнело.
Мы беспрекословно подчинились, и вот сидели все трое и дрогли под мелким едва заметным дождичком, похожим на туман. Моросит такой дождик, словно исподтишка, и вы не обращаете на него внимания до тех пор, пока вдруг не начинаете чувствовать, что вместо носа у вас на лице эдакий мокрый трюфель, а по спине бегают холодные мурашки. Мы едва умещались в узенькой, выдолбленной из коры лодчонке, легкой точно перышко: при малейшем дуновении она кренилась набок. Я, как самый неуклюжий, восседал в центре, папаша Матье примостился на корме, а впереди скрючился доктор Плурд. Он ничего не слышал и не видел, целиком отдавшись своей страсти. На нем была блуза местного пошива, раздувшаяся от многочисленных фуфаек, надетых внизу; воротник, поднятый на манер капюшона, прикрывал плотно надвинутый на лоб картузик с наушниками. Я видел только его спину, великолепную, монолитную, выразительную: если бы не движение плеч, можно было бы подумать, что она вырезана из дерева. Казалось, доктор Плурд врос в лодку, и никакая беда, голод или усталость не сдвинут его с места. И тут на меня нашла самая черная меланхолия.
Папаша Матье шевельнул веслом, и наша лодка скользнула в бухточку — там на поверхности воды плавали длинные водоросли. Говорят, рыба любит отдыхать в таких болотистых заводях. Было тихо, только удочки со свистом рассекали воздух, да из леса временами доносился то пронзительный крик птицы, то похрустывание веток, а порой глухой призыв дикого зверя долетал будто из самых недр поросшей лесом могучей горы. Сгустившийся на берегах сумрак мало-помалу окутывал озеро. Мы уже почти ничего не видели.
Вот вам и подходящее время для рыбной ловли! На дне нашей лодки покоились четыре анемичные форели и даже не пеструшки, а с серым брюшком. Стоило трудиться и ждать столько часов! Нет! Уж с меня хватит! Я дышал на окоченевшие пальцы и подыскивал какой-нибудь предлог, чтобы никуда завтра не ездить. Хорошо бы провести весь день в тепле, у пылающего очага, а если погода прояснится, можно растянуться голым на «пляже» — двух полосках мелкого песка перед Клубом.
— Ну что ты будешь делать! Не клюет, хоть лопни! — проворчал папаша Матье. — Я же вам, доктор, говорил — этот паршивый Лануэт со своей шайкой еще весной всю здешнюю рыбу загубил. Как прошел по деревне слух, что егеря Лароза в больницу свезли, — в нем почка блуждала и не давала ему никакого покоя, — так они тут как тут. Пришли вдесятером, провианту натащили видимо-невидимо, и динамиту, и удочек, и ящиков со всяким добром, и, кто их знает, чего еще! Проторчали тут трое суток, а после них не то что рыбы — рыбьего хвоста не сыскать!
Он презрительно сплюнул, потом неуверенно, как бы нехотя добавил: