Владимир Личутин
БЕЛАЯ ГОРНИЦА
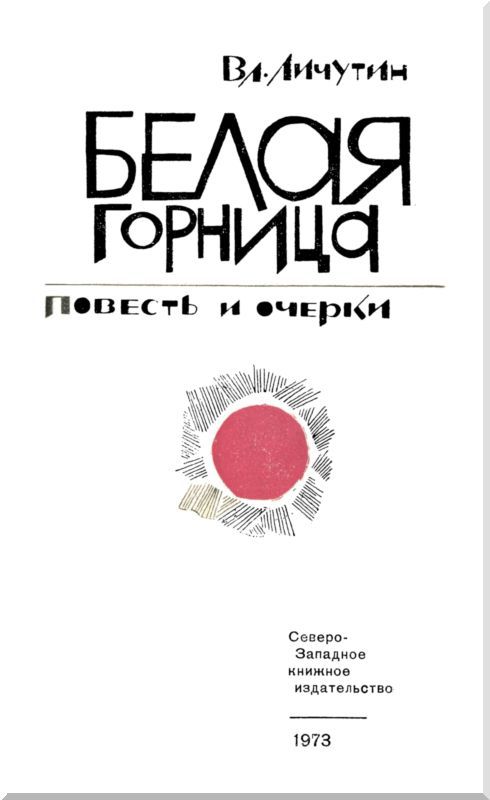
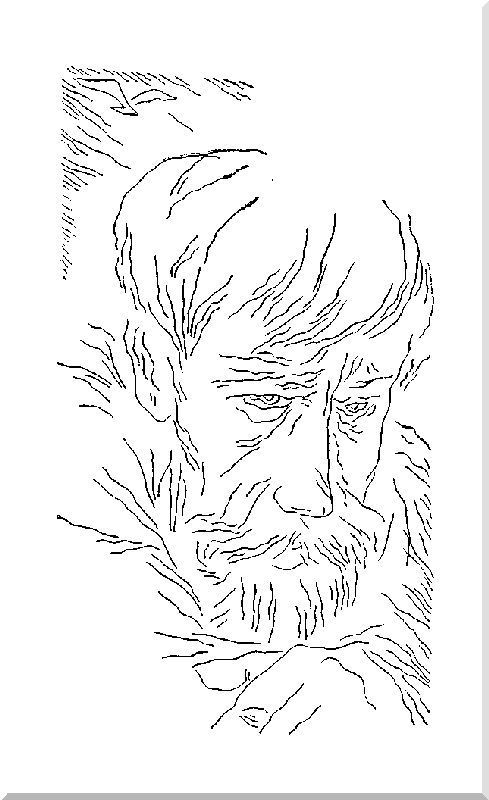
БЕЛАЯ ГОРНИЦА
Повесть
1
Только на исходе третьих суток нашли, наконец, матерый лед и надежно устроились на ночевку. Юровщик Михаил Крень, хоть ты лопни, не мог уснуть: он сердито травил свою душу, олений волос от одеяла лез в рот, Мишка поминутно плевался и, видно, заплевал все, потому как текло уже по шее. Он еще долго ворочался в лодке, расталкивая ногами других и мучительно завидуя спящим: «Во-во, словно тюлени-утельги разлеглись — и не шевельнешься тут, к матери их».
Уснул он незаметно для себя: казалось, просто затворил на минутку глаза.
Тревожный шорох поднял его. Давножданным был этот шум: молчаливой хищной стаей довольно низко и споро летели вороны, только порывистый нутряной клекот, видимо, вожака, разрывал раннюю ледяную тишину, и тогда еще резче взмахивали сильные вороньи крылья.
Крень приподнялся резко, охнул от боли — волосы примерзли к одевальнице. Мгновение сонно озирался, потом вскочил на лодку, ладонь пригоршней пристроив ко лбу, вгляделся и сразу вспотел, когда рассмотрел, что вдали словно поленница дров рассыпана. Закричал, пиная ногой Миньку:
— Эй, плоскопятый, мать вас так, бока отлежали. Вставай, те нет говорят.
Рядом медленно разогнулся длинный Минька и также приставил ко лбу ладонь.
— Кожа есть! — крикнул он, наваливаясь всею тяжестью на четверых спящих.
Те, недовольные, заворочались, вместе с одевальницей покатились на один бок и опружили лодку, а когда встали, то обнаружилась среди них девчонка лет шестнадцати. И очень чисто смотрели ее глаза из-под низко надвинутой пыжиковой шапки.
А вороны нынче встали раненько: вслед за жиденьким рассветом залетали туда и обратно. Самые быстрые успели побывать среди тюленей, которые сейчас распластались на грубом льду и чесали жирные бока о мелкие льдинки-тартышки. Жировая короста отслаивалось кусками, покрывая грязью старые льды. На эти отбросы и мчались столь решительно черные стаи, чтобы, насытившись, лететь обратно на материк так же молчаливо, но только более грузно.
Зевать тут было некогда — это сразу понял Крень, когда повел в сторону ветра горбатым носом: коричневые глаза его налились влагой, словно поднесли юровщику стопку. Мишка, и без того не ахти какой любитель поговорить, сейчас окончательно умолк, только пыхтел над кладью, доставая багор, ружья, лямки. Потом вынырнул из совика в черном застиранном пиджаке, добела завалянном оленьей шерстью, заячью шапку сбил на затылок; что-то дерзкое и ухватистое было в его повадках.
— Ну, пошли, хозяин, — позвал Минька.
Его длинное тело окончательно разогнулось, маленькое лицо собралось складками, словно провели пятерней от затылка к носу, только черные брови были видны на Минькином лице.
Крень и тут ничего не сказал, а мягко ступил вперед, отметив боковым зрением, куда приткнулась Юлька Селиверстова, потому как этот факт был ему весьма не безразличен. Затем Мишка, сдерживая дыхание, прилег за ропаком, и все облегли его кругом. Тяжелым духом шибануло в нос, значит, зверь был совсем рядом: он кричал и стонал, и шум был похож на прибой, потому что накатывался волнами, и дышать было невозможно от такого смрада, но зверобоям он был даже сладостен. И, опьянившись запахом, вскочил Крень, крикнул непонятно и взволнованно и бросился в самую гущу стада, отрезая путь к отступлению. Огромный самец-лысун, вероятно, вожак, поднялся на коротком хвосте. Его жирный загривок сердито заколыхался, и трубный рык выкатился из мощного тела; в рубцах была серая в пятнах кожа — не кожа, а панцирь, и глаз один смотрел слепо. Видно, не раз уходил лысун от жестокой погони. Но Крень не усмотрел в азарте воинственной позы самца, ударил багром по самому носу обидным и коротким щелчком. Тюлень вздрогнул и завалился на спину.
— Ах ты, красавчик, сукин ты сын! — кричал в восторге юровщик, орудуя багром, и туши ложились под ноги.
Если зверя много, то и на душе радостно. Ошалело носились уцелевшие тюлени в поисках отдушины, и только когда одеревенели от жаркого боя плечи, и руки налились тяжестью, и лед окрасился кровью — столько зверя легло, — Мишка кончил бег, выхватил из ножен тесак и стал быстро шкерить туши. Уже голова пошла кругом и стало тошнить от пролитой крови, но работу эту Крень бросить не мог: «Ведь от удачи не бегают, удачу хватают за горло, а здесь ишь как подфартило. Не зря старики сказывали, что зверь на характер идет».
Потом Юльку отослали варить «хлёбово», а мужики, впрягшись в лямки со шкурами, стаскивали юрово к лодке. И надо сказать, каторжная эта работа — бить зверя. В теле жилочки нет не измотанной, руки по локоть в крови, одежду хоть выжимай, так она взмокла от пота и морского рассола. А когда кончится день и угаснет за ближними ропаками — иссякнет телесный жар, заструится по жилам противный холод, разрывая надвое душу. А кругом, на десятки верст, — льды, беспросветная ночь, глушь, стынь…
Юлька из маленьких щепок развела жидкий огонек: дерево здесь — золото. Оно — сугрева и спасение. На неярком костерке сварила девка кулеш из пшенки с говядиной; ужин в общем-то сытный, если к нему побольше кусать ситного. Но зверобои ели лениво, больше отряхивая на малицы. В такие суматошные времена, когда зверь валом валит, для помора нет еды: он три дня может сухой корочкой жить. И тогда лихорадка азарта ало красит щеки, и на висках появляются мертвые землистые тени.
Вот почему с большим трудом проглотил Крень ложку кулеша. Пшенка застряла в горле комом, потом с трудом докатилась до желудка. Нервный пыл еще не покинул Мишкину душу. Полежав с минуту у огня, Крень почувствовал, как подкралась к нему трехдневная усталость и сжала сначала горло, разодрала-раздвинула рот в жаркой зевоте, так что брызнули слезы.
Поднимаясь, заметил Юлькин любопытный взгляд. И внезапную ласковость Крень почувствовал к ней, вернее, это была жалость: совсем еще девка, и силы у нее, как у молодой оленихи-сырицы, вот продрогнет и сломается разом.
— Ты ешь, Юлька, на мой рот не гляди. Узкий он на еду. Поешь сала, от него в животе тепло.
— Работой сыта, — ответила Юлька.
Ей было зябко и неуютно. Разговор заводить не хотелось, даже языком шевелить тяжело. И Креню говорить было лень. Он постоял в лодке, послюнявил палец — было полнейшее затишье, и только легкое касанье воздуха с моря означало, что ветер пошел на полуночник.
Юровщик подумал, что такая теплынь, да посередке зимы, не к добру: как бы не пал шторм. Но сон пересилил тревожные мысли. Засыпая, еще слышал глуховатый голос Миньки:
— Притомился хозяин. Натуристый он человек, власти бы ему поболе.
— Опоздал, кажись, — ответил кто-то.
— Старик знал, куда посылать. Ишь, зверя навалено, как из пропасти…
— А бают, что старый Крень с ведьмой на островах любился и от нее корень приворотный имеет.
— А и то правда, — опять встрял в разговор Минька. — Мне сказывали старики, что на Новой Земле русалка похаживала. И был на промыслу Ондрей с Золотицы, мужик-от справный и на гитаре от скуки играл. Вот и запохаживала русалка и тискать Ондрея стала. Однове парень ухватил ее, и стали они жить, как мужик с бабой, и ребятеночек у них появился. Потом весна настала, и домой они запоходили. Тогда кормщик посоветовал Ондрею: мол, ты, паря, виду не оказывай, а за скалу прячься, там мы тебя и подберем. А русалка-то, видать, палась умом, что парень на омман пойти может. В избе его поджидат, а Ондрея нет. Выскочила она, значитсе, на берег с робеночком в руках, а корапь уже в море. Она робеночка-то руками дерг и одну половинку свись в море. Хотела, видно, на палубу закинуть, да промашку дала. Одна кровиночка, крохотно пятонышко, на досках осталось, и стало корапь пружить-обворачивать. А кормщик, дед мой двоюродный, Григорий Яковлевич, проходной мужчина, смекнул, что у девки ведьмины чары, и стесанул пятонышко топором. И сразу корапь выпрямило, и волна на утишку пошла, а то спасу не было…