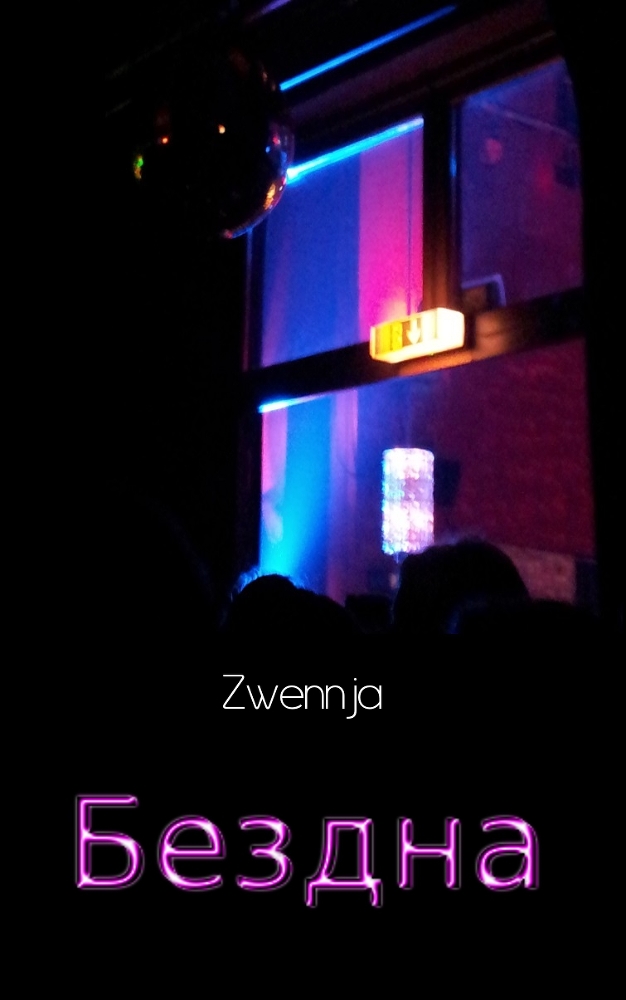
1
Мы оцениваем то, чем дорожим,
и тем самым его обесцениваем.
Иэн Бэнкс
Проснись, дорогая,
Прости, что не дал досмотреть,
Пока ты спала, я тихонько смотался из дома -
Узнать, что есть жизнь и смерть…
Любая строка - это шрам на лице, след осколка.
Засев в голове, он не даст никому постареть…
Саша Васильев
Времени не существует. Время, если хотите знать – это вообще условная величина. Как-то я
сказал это своей первой любви, и она долго смеялась, запрокидывая голову и обнажая ровные
белые зубы, а потом сказала, что из меня получился бы неплохой философ. Кто-нибудь наподобие
Ницше, или, на худой конец, Ла-Вея. А потом заявила, что мы будем вместе всегда.
Теперь она давно исчезла из моей жизни и вряд ли помнит о том своем заявлении. И это
лишнее доказательство того, что время – лишь условная величина. А все эти образы летящей
вперед стрелы, которую надо оседлать, или мчащегося вдаль поезда – пустое пижонство и
самолюбование. За свою жизнь я сочинил тысячи таких болванок - я знаю, что говорю. На самом
деле человек не в силах нестись вперед вместе со временем. Время – это вода, а люди – всего лишь
маленькие камушки, беспомощно перекатывающиеся в незыблемых и вечных волнах прибоя.
Равнодушно и беспощадно эти волны перетирают камешки, бьют их друг о друга и постепенно
побеждают любое сопротивление, и всех делают одинаковыми.
Неплохая идея для новой песни. Последнее время меня часто посещают такие идеи – когда я
пьян, или когда засыпаю, они прямо-таки атакуют меня, как настоящая армия – горячие пули
впиваются в глазницы, метафоры гусеничными танками проезжаются по воспаленному мозгу, а
тысячи слов-солдат планомерно осаждают мой бедный разум. Наверное, скоро я сойду с ума. Я не
знаю, что я почувствую тогда – быть может, мне станет немного легче жить. Я слишком часто
ощущаю себя одиноким астронавтом из рассказа Бредбери, у которого после крушения на
незнакомой планете в мыслях поселились потусторонние существа, ведущие войну друг с другом
– они пробуждались к жизни всякий раз, когда он засыпал.
И никого, совсем никого не было рядом, кроме книг и черного кофе, а они не избавляли от
мучений – лишь усугубляли и растягивали их...
Я говорил об этом своему психоаналитику, и тот рассказывал мне утешительные байки в ответ
– о гениальности, о работе без выходных, даже о божьей благодати, - каждый день новую, но эти
байки лишь прибавляли звонкости орудиям моих солдат. Я устал, я не хочу больше ничего
сочинять, мне так хочется отойти в сторонку от собственных мыслей – пускай они разбирались бы
со всем сами... как жаль, что это невозможно.
“Это пройдет со временем”, - говорит психоаналитик, кряжистый и седой пятидесятилетний
мужичок, в облике которого все внятно говорит о его согласии с этим миром. Ах как хорошо
просыпаться вместе с лучами утреннего солнца, валяться на диване с газетой после обеда и
исправно трахать свою жену по воскресениям. А по будним дням – трахать ее подруг.
Я слишком циничен, не так ли?
“Это пройдет со временем”.
Нет лучше слов. Они так восхитительно пусты, но способны показаться такими
обнадеживающими. Кому-нибудь – но только не мне.
Ведь времени не существует. Сегодня это понятно мне так же определенно, как то, что мелкая
морось за окнами отеля - сырая и холодная, а бренди в тонком хрустальном бокале согревает и
обжигает.
Дурная привычка – пить в одиночестве. Она появилась у меня не так уж давно - признак
старости, надо полагать. Или дурного воспитания. Или алкоголизма. Лет десять назад я бы начал
серьезную воспитательную работу с самим собой, холил бы себя и лелеял, отучал бы себя
сторониться людей – ведь столько всего еще ждет в будущем, столько нового и необыкновенного,
столького еще предстоит достичь, и сторониться людей невозможно, иначе, того и гляди, вообще
ничего не добьешься в жизни. Я был тогда молод и полон сил и надежд.
А теперь мне наплевать. Это мой последний тур.
Я вообще не хотел в него ехать, не хотел больше ни для кого петь и играть для
тринадцатилетних сопляков, которые все равно никогда не поймут, что я хочу сказать им своими
2
песнями. Зачем продолжать эту клоунаду? Мне сорок один год, у меня куча денег, шлюх, выпивки
и четыре квартиры в разных странах мира. Я добился всего. Наверное.
Мой менеджер посчитал иначе – нужен прощальный тур, с поклонниками нужно попрощаться,
черт, да кто они мне, чтобы с ними прощаться? Но – никакой лирики, сухой коммерческий расчет.
Волшебная формула “ты только подумай, какие бабки это принесет” - и я готов. Вернее,
обезоружен для дальнейшего спора.
И тур начался. Ладно, одним больше... А теперь я пью в одиночестве, потому что не хочу
видеть никого из ребят. Это тоже причина – Кевин презирает меня за то, что я решил все
закончить, и считает слабаком. Он сейчас полон энергии и записывает сольник, надежда на
солнечное завтра еще не угасла в нем, как во мне. Брайна я сторонюсь из-за его искреннего
сочувствия, я не люблю, когда мне сочувствуют – это так унизительно. А еще я иногда завидую
ему. Он тоже, как и я, повсюду дома, куда бы он ни приехал, он найдет себе ночлег и развлечения
– такая возможность существует у всех, у кого бывают деньги. Но у него есть дом и семья, и ему
есть, куда возвращаться. А я больше похож на моряка, богатого, но бездомного. Мой дом везде – и
нигде. Мой дом на корабле. Иногда я схожу на берег, каждый раз в новом городе, и, пока я
осматриваюсь, ко мне сбегаются девки без комплексов и народ, рекламирующий свои отели: я
произвожу на них впечатление человека, способного заплатить немаленькие деньги за
удовольствие. Потом бармен в очередной гостинице угодливо подливает мне водки в пустой
стакан, а на следующий день прощается со мной, стараясь выглядеть все таким же радушным. И
прячет глаза, потому что не хочет больше видеть моего лица.
Мой дом на моем корабле, но у корабля нет пристани, а корабль без пристани в сорок один год
– серьезный повод задуматься о том, не сбежали ли с него уже все крысы.
А Майку мне стыдно смотреть в лицо, потому что он никогда не забудет, как я увел у него
Келли, и как она умерла после аборта. Аборт был самый профессиональный, и сделан он был на
мои деньги, немаленькие деньги – но что-то пошло не так. Это было очень, очень давно,
пятнадцать лет назад. Черт побери, мы все были молоды тогда и стремились выжать из
окружающего мира как можно больше удовольствий, мы пробовали экстази и героин, и
занимались любовью втроем на крышах ночных небоскребов – мы рвались уцепить побольше
кайфа в этой тусклой и серой пустоте, которую обыватели называют жизнью. Иногда это
удавалось – на сцене, когда тысячи поклонников, заглушая своими голосами грохот музыки,
повторяли за нами наши слова, или после особенно большой дозы, или после какой-нибудь совсем
безумной выходки, вроде прыжка с парашютом без инструктора и страховки. Келли была для меня
очередной новинкой, непробованным приключением, точно таким же, как и я для нее. Между
нами не было никакой любви, нам не нужны были дети. Просто однажды мы задержались в
студии после записи, и я сказал: “Что-то холодно становится”, а она подошла ко мне ближе, и ее
глубокие карие глаза шепнули: “Хочу тебя согреть...” Она была мягкой, податливой и
действительно горячей, горячей, как раскаленный воск, и ее духи пахли скошенной травой и
морской солью... а потом она сама предложила аборт. И не вернулась с него. Я знаю, я не убивал