В странном состоянии встал Чешуёв. Предвестие событий коснулось его. Женой Зоей был оставлен Чешуёву завтрак на кухне, и Виталий съел филе трески в тесте неожиданно с настроением. Недоиспользованные таблетки от нервности он выбросил в унитаз и пошел на прогулку с Анонсом.
Они гуляли в овраге сорок минут. Сверху лифтерша Степанида следила за ними в бинокль — что зарывает собака? Большие самосвальные грузовики сыпали в овраг мерзостную труху. В отдельных точках свалка горела. По бурьянам и лопухам струился желтый руинно-бомбежечный дым.
— Будет гроза, — сказал Чешуёв Анонсу. — В воздухе электризация. — И еще не выбрались они из оврага, как пошла наползать из Ваганькова палевая с лиловостью туча, водворяя предгрозовую тишину внутри города. И дунуло потом, закрутило, пронеслись высоко над городом, как стая розовых птиц фламинго, сорванные с чьей-то балконной веревки в большом количестве панталоны.
— А между прочим, — смакуя факт, сообщила Чешуёву максимальная пенсионерка Мосягина, — некоторые ходят, а за ними уже пришли. На этот раз опечатают квартирку, как пить дать!
От этих слов заныло у Чешуёва внутри, и в большой человеческой тоске поднимался он на девятый этаж.
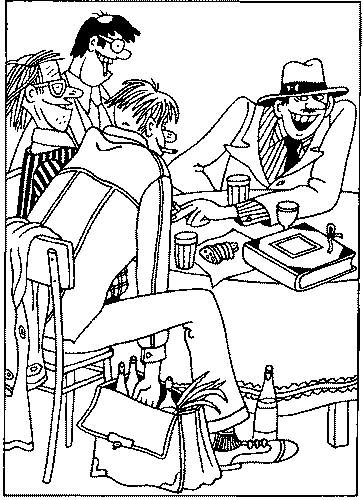
Но не участковый Невара с операми караулил под дверьми Чешуёва, чтобы взять его тепленьким и без шума, благо сын на каникулах в лагере. Нет, не Невара тут был, а четыре передовика-сослуживца стояли у дверей Чешуёва: Вознесьенский, Кикоть, Лебедев-Анисин-Бодунов, Антонинов.
Сдержанно им поклонившись, Чешуёв отпер двери, и как раз в этот миг подлетел снова лифт, принеся на этаж пенсионеров Авдюкова, Мосягину, водолазника в джемпере и Степаниду, лифтершу.
— Понятые мы! — закричала инициативная группа, адресуясь в основном к Антонинову, который выглядел очень военно, минимум на подполковника в штатском. — Настал час, когда все после обыска будет принадлежать народу!
— Отдельным представителям народа, — сказал Антонинов. — До особого распоряжения. А ну, аллегро модерато все по домам!
Антонинов затискал в лифт инициативную группу и вернулся, бравурно крича:
— Буксир по перековке нетрудовой психики Чешуёва приступает к работе!
А на кухне уже командовал Лебедев-Анисин-Бодунов, кромсал буженину, накапывал в рюмки виньяк.
— Значит, — загоготал Вознесьенский, — у тебя графоспазм? Ничего себе графоспазм! Сгони с лица похоронное выражение, Чешуёв. Выпьем за его графоспазм, чтоб еще год держался.
И четыре передовика в шуме ливня за окном выпили раз и два.
В это же точно время ударило в стекла, полетели осколки и водяная пыль на линолеум кухни, и коллега Кикоть закричал про град, видать, даже не меньший, чем куриные яйца. Но то был не град, не стихия, а всего лишь зять Авдюкова принес перископ подлодки для тестя. И тем перископом, желая наблюсти события у Чешуёва, Авдюков и вышиб ему всю раму, не удержав перископ под ветром на балконе четвертого этажа у водолазника.
Перископ рухнул в клумбы и кусты можжевельника, сломавшись при падении надвое. Ливень хлестал в его линзы и призмы.
— Но все-таки к делу, — сказали после паузы Вознесьенский и Кикоть. — Вот папка.
Он выволок громадную папку, принятую теми, внизу, за уголовное дело на Чешуёва.
— Вот «Севильский цирюльник», — взял партитурные листы Вознесьенский. — Надо выполнить два экземпляра, а оплату записать на меня. Тут и заказ ко Дню воздухофлота, десять песен плюс подтанцовка «Мы в детстве, товарищ, с тобой на фанерных машинах летали». Это по исполнении ты запишешь на Лебедева-Анисина-Бодунова.
— Нет, — сказал вдруг Чешуёв и поднялся. — Всем вам говорю мое «нет». Больше я не могу.
— Виталий, — помертвел Антонинов и стал выглядеть на капитана, не больше. — Ты губишь нас. Чем это вызвано? Нам по году осталось до пенсии. Помоги нам выработать максимальную пенсию, исчисляемую, как известно, с заработка. Ты уже столько сделал для нас, а теперь на попятный? Ты работу выполняешь за нас, но ведь деньги мы приносим тебе!
— Не-о-фициальные! — закричал Чешуёв. — А официальных с такой загруженностью я имел подозрительно мало. И меня числят жуликом. В учреждении я повис на доске позора. Из юных следопытов изгнан мой сын! Ради чего я шахер-махер и участник в темных делах?
— Ради други своя, — сказал рыдательно Кикоть. — Ну, потерпи еще год. Надо помогать престарелым. Надо приумножать летопись своих добрых дел. Ведь каждый из нас слабоват, чтобы выработать на максимальную пенсию. Ты добр, Виталий, и ты гений профессии. Не урезай в себе доброту. Где твое высокоразвитое чувство товарищества?
— На твоем месте я спал бы спокойно, — сказал Лебедев-Анисин-Бодунов. — Велика важность — крошечное мошенство. Ты погляди, что творится кругом. Жулеж колоссальный. — И, иллюстрируя этот вселенский жулеж, сделал в воздухе жест и будто из воздуха выловил, сунув быстро в карман, пару атомов кислорода.
А ливень уже проходил, последние крупные капли шлепали в лужи, и солнце выкатилось над оврагом, и чирикнул браво первый послеливневый воробей.
— Я должен подумать, — сказал Чешуёв.
— Только ты думай недолго, — захныкали передовики производства. — Через неделю надо ноты сдавать, не губи нас, Виталий.
И, пятясь задом от задумчивого Виталия, в той последовательности, как висели они на Доске почета, они и исчезли: Вознесьенский, Кикоть, Лебедев-Анисин-Бодунов, Антонинов. А к Чешуёву, сидящему в полном смятении чувств при открытом окне, подошел его пес Анонс, восприимчивый к хозяйской печали, лег рядом и затосковал от сложностей этого мира.
Но тут бликующий солнечный луч отразился от дома-башни напротив, простой красивый солнечный луч, а не бликование стекол перископов и стереотруб Авдюкова, и Чешуёв, возродившись и почувствовав большую тягу к какао, сказал псу:
— Вам, Анонс, я должен рассказать анекдот, приличествующий событиям. Стало быть, едет трамвай, за трамваем катится голова и говорит: «Ну и попили пивка!»
И под эти слова Чешуёв взял тяжелую нотную папку, принесенную передовиками, шагнул к разбитому перископом окну и метнул папку вниз, где кандидаты в максимальные пенсионеры как раз проходили сквозь строй пенсионеров уже максимальных, извлекающих из размытого чернозема линзы и анастигматы перископа.
Если вбегает енот
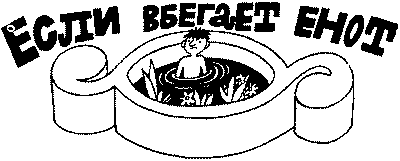
Нет предела, как сообщает художественная литература, влюбленности людей в собственные профессии. И просто не оторвать нашего современника от вверенного ему инструмента, отчего и засыпает он в быту, не иначе как прижав к груди любимые: шабер, шрабкугель, цинубку, а иногда — кошельковый невод.
И настолько живет производственник коллективом, что нет, не портрет белобрысой очаровашки в купальнике стоит на ночной тумбочке холостого лекальщика Габузова. А стоит там в рамке из болтов и планшайб портрет сердечного друга молодежи и наставника ее на путь истинный — сменного мастера Золова.
А уж у Золова в семье обстоит дело так, что завсегда его внуки предпочтут, чтобы им подарили измерительную плитку Иогансона, а не плитку шоколада.
Но:
Вопрос этот освещается мало, тем не менее однажды холостого лекальщика Габузова посещают вдруг мысли: что за банный лист этот мастер Золов, да и весь этот цех надоел до тошнотиков!
Тоже и мастер с известной периодичностью предается мыслям о том, до чего же обрыдли ему все лица коллег.
То есть в отношении личности к коллективу и рабочему месту наступает то самое, что отражено в песнопении: «Земфира неверна. Моя Земфира охладела!»
С Земфирой, ясно, случай необратимый. Тогда как охладевание граждан к любимым трудовым процессам может тревожить менее, поскольку оно временно: просто люди устали, им хочется в очередной отпуск. Хочется бездумности, новых лиц, новых встреч, перемены обстановки, ветерка в голове.
Извинительное состояние.