Теофиль Готье
Мадемуазель де Мопен
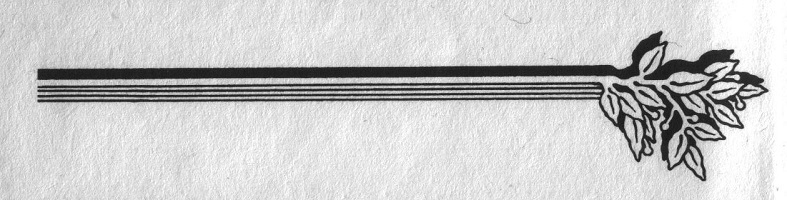
Предисловие
Одна из самых забавных примет славной эпохи, в которую нам посчастливилось жить, — это, бесспорно, оправдание добродетели, предпринятое ныне всеми газетами, какого бы ни были они цвета, — красные, зеленые или трехцветные.
Разумеется, добродетель — почтенное свойство, и нам отнюдь не хочется — Боже сохрани! — ею пренебрегать. Это порядочная, достойная женщина. И мы полагаем, что глаза ее с изрядным задором поблескивают из-под очков, что чулки у нее не так уж и перекручены, что табак из золотой табакерки она берет со всем мыслимым изяществом, а ее собачка приседает и кланяется не хуже учителя танцев. Так мы полагаем. Мы даже согласимся, что для своего возраста она еще хоть куда и прекрасно сохранилась. Очень приятная бабушка, но все-таки бабушка… По-моему, естественно будет предпочесть ей — особенно если вам двадцать лет — этакую премилую безнравственность, дерзкую, кокетливую, разбитную, слегка растрепанную, в юбчонке скорее короткой, чем длинной, с вызывающей ножкой и вызывающим взглядом, с румянцем во всю щеку, с улыбкой на устах и сердцем на ладони. Самые чудовищно добродетельные журналисты не посмеют утверждать обратное, а если кто и посмеет, то на самом деле он скорее всего так не думает. Думать одно, а писать другое — это случается на каждом шагу, особенно с добродетельными людьми.
Помню, какие колкости до революции (я имею в виду Июльскую) сыпались на горемычного и целомудренного виконта Состена де Ларошфуко, удлинившего туники танцовщиц в Опере и своей патрицианской рукой наложившего стыдливые нашлепки на середку всех статуй. Ныне г-на виконта Состена де Ларошфуко уже превзошли, и намного. С тех пор стыдливость весьма усовершенствовалась и дошла до таких тонкостей, о каких прежде и не помышляли.
Не имея привычки рассматривать у статуй известное место, я вместе с другими считал, что на свете не может быть выдумки смешнее виноградных листочков, вырезанных г-ном попечителем изящных искусств. Похоже, я заблуждался, и виноградный листок — одно из похвальнейших общественных установлений.
Мне поведали, но я не пожелал верить, так дико это мне показалось, что есть люди, которые, стоя перед фреской Микеланджело «Страшный суд», видят только эпизод с распутными священнослужителями и прикрывают себе лица, вопя о глумлении над безутешной скорбью!
Эти же люди изо всех романов о Родриго знают только куплет об уже. Едва на картине или в книге мелькнет нагота, они спешат прямиком туда, как свинья — к грязной луже, не обращая внимания на пышные цветы и прекрасные золотистые плоды, тянущиеся к ним со всех сторон.
Я, признаться, не столь добродетелен. Когда бесстыдница Дорина выставит мне напоказ свой бюст, я, конечно, не стану доставать из кармана платок, чтобы прикрыть эту грудь, на которую не в силах смотреть. Я буду смотреть на грудь так же, как на лицо, и получу удовольствие, коль скоро она окажется белой и округлой. Но я не стану щупать платье на Эльвире, дабы определить, мягок ли шелк, и не стану с набожным видом заваливать ее на край стола по примеру бедняги Тартюфа.
Царящее ныне преклонение перед моралью было бы попросту смехотворно, не нагоняй оно такую скуку. Что ни фельетон, то кафедра, что ни журналист, то проповедник; недостает только тонзур да стоячих воротничков. Настала пора дождей и нудных проповедей; чтобы упастись от того и другого, приходится брать карету или сидеть дома и перечитывать «Пантагрюэля», попивая вино и попыхивая трубкой.
Боже милостивый! Какое остервенение! Какая ярость! Кто вас укусил? Кто вас задел? Какого черта вы так вопите и почему так взъелись на бедный порок? Что дурного сделал вам этот добродушный, покладистый господин, который только одного и хочет — развлекаться самому и по мере возможности не докучать другим? Поступайте с пороком, как Серр с жандармом: обнимитесь, и пускай все это поскорее закончится. Поверьте, вам же будет лучше. Да, Боже мой, господа проповедники, что бы вы делали, не будь на свете порока? Если нынче все станут добродетельны, вам завтра же придется просить милостыню.
Предположим, сегодня вечером позакрывают театры — о чем вы завтра настрочите статью? Не станет балов в Опере, поставляющих вам материал для ваших колонок, не станет романов, которые вы могли бы разделать под орех; ведь балы, романы, комедии — все это воистину бесовские прелести, если верить нашей святой матери-церкви. Актриса возьмет да прогонит своего содержателя — и нечем ей станет оплачивать ваши панегирики. Никто больше не подпишется на ваши газеты: все кинутся читать блаженного Августина, пойдут в церковь, начнут бубнить молитвы. Оно бы, может, и неплохо, но вы на этом прогадаете. Если все станут добродетельны, куда вы пристроите свои статьи о безнравственности нашего века? Как видите, и от порока есть известная польза.
Но теперь пошла мода быть добродетельным и благочестивым; это поза, которую все стараются принять; все рядятся святыми Иеронимами, как раньше рядились донжуанами; все стали бледные, изнуренные, причесаны под апостолов; ходят, набожно сложив руки и уперев взор в землю; все, судя по ужимкам, вот-вот достигнут совершенства; на камине у всех раскрытая Библия, над кроватью — распятие и освященная веточка букса; никто больше не божится, курят мало и табаку почти не жуют. И вот уже все стали христианами, толкуют о святом искусстве, о высоком призвании художника, о поэзии католицизма, о г-не Ламенне, о живописцах ангельской школы, о Тридентском соборе, о прогрессивном человечестве и о тысяче других прекрасных вещей. Кое-кто сдабривает свою веру капелькой республиканизма: эти господа из самых занятых. Они как нельзя более жизнерадостно сочетают Робеспьера с Иисусом Христом и с похвальной серьезностью устраивают смесь из Деяний Апостолов и декретов святого конвента — вот он, заветный эпитет; другие же в качестве последнего ингредиента добавляют кое-какие сенсимонистские идеи. Эти — уж совсем превосходные и положительные люди; их не перещеголяешь. Человеческой глупости не дано идти далее этого предела: has ultra metas…1 и т.д. Это геркулесовы стопы шутовства.
Благодаря господствующему ныне ханжеству христианство настолько вошло в моду, что известной благосклонностью у публики пользуется даже неохристианство. Говорят, у него появилось не менее одного последователя, если считать г-на Друино.
Еще одна крайне любопытная разновидность так называемой нравственной журналистики — это журналистика женского направления. Она по части стыдливости настолько ранима, что доходит до антропофагии или вроде того.
Ее образ действий, простой и незамысловатый на первый взгляд, на самом деле весьма потешен и может доставить огромное удовольствие публике, а потому мне кажется, что это направление стоит сохранить для потомства — для грядущих поколений, как говаривали замшелые старики в так называемом великом веке.
Чтобы зарекомендовать себя журналистом этого толка, нужно заранее запастись кое-какими орудиями труда — скажем, двумя-тремя законными женами, несколькими мамашами, как можно большим набором сестер, полным комплектом дочерей и бесчисленными кузинами… Далее, нужны театральная пьеса или роман, перо, чернила и издатель. Не помешает какая-нибудь идея и десяток-другой подписчиков, но можно обойтись и изрядной толикой глубокомыслия и деньгами акционеров.
Приобретя все это, смело объявляйте себя нравственным журналистом. При подготовке статей достаточно будет следующих двух рецептов, если в каждом случае вносить в них подобающие изменения.
ОБРАЗЦЫ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ РЕЦЕНЗИЙ
НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
«После крови в литературу хлынули помои; после морга и каторги она вводит нас в альков и публичный дом; после рубищ, запятнанных злодейством, она являет нам рубища, заселенные пороком; после … и т.д. (по мере надобности, смотря по тому, сколько остается свободного места, в этом духе можно продолжать от шести строк до пятидесяти и свыше), — и это закономерно. Вот к чему ведет забвение священных основ и романтическое бесстыдство: театр превратился в школу проституции, и мы трепещем, дерзая явиться сюда со спутницей, к которой питаем уважение. Вы приходите в зал, привлеченные именем знаменитого автора, но во время третьего акта вынуждены увести свою юную дочь, смущенную и растерянную. Ваша жена прикрывает веером краску стыда; ваша сестра, ваша кузина и т.д.» (степени родства можно разнообразить как угодно, лишь бы все это были родственницы женского пола).
1
По ту сторону пределов (лат.).