Фотькина любовь
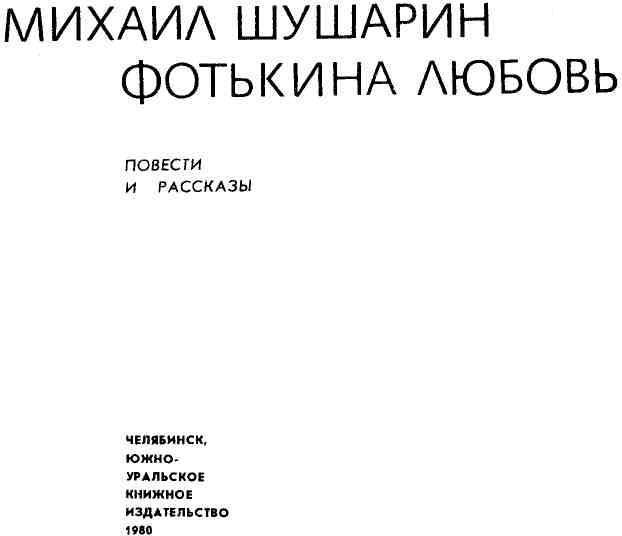
ПОВЕСТИ
ПОСЛЕДСТВИЯ ТЯЖЕЛОГО РАНЕНИЯ

Во второй половине июля, когда самая макушка лета через плетень глядит, сильно мелеет многорукавое устье нашей речки Суерки, и втекает она в Тобол крадучись. Не речка получается — займище какое-то: обсохнут рёлки, островки, затянет мелководья камышом, тростником, ряской да кувшинками, редко плес добрый найдешь. Зато ближе к гирлу, по протокам и омутам, карасю — раздолье. На удочку не идет, успевает облениться за лето, а сети-трехперстки каждое утро полнехоньки. И сушат, и вялят, и солят тут карася, в сбойках сушеного продают.
Выгорают в это время травы на буграх, по берегам. Лишь серебристо-серая полынка дюжит под жарким солнышком да прибрежные ивняки, охлаждаясь ночными росами и туманом, блаженно клонятся к воде. Идешь по тропинке вверх-вниз, вверх-вниз, жаром губы и гортань спекает, а в кустах — тишь, прохлада: ни комаров, ни паутов, только мелкие мушки-жигалки кое-где вьются, да и то там, где скот недавно прошел.
В излучине, под крутым берегом, в километре от деревни, нашел колхозный механик Прокопий Переверзев здоровенный осиновый сутунок, одним концом утонувший в воде. Стукнул по сухому комлю топором — звенит, попробовал сдвинуть с места — и думать нечего: затянуло, засосало тиной намертво. «То, что надо», — подумал Прокопий. И устроил тут свою пристань. Лодку по речке пригнал, скобу из полосового железа на самокованые штыри присадил к бревну так, что ломом не вывернешь. Уходя, цепь от лодки вокруг скобы обовьет и замок повесит. Не воров боялся, потому что не было их в Суерской округе (чужое зерно веять — глаза засорять), но детдомовские ребятишки частенько набеги устраивали. Детдом в деревне давно, еще с войны. Не жалко и лодки, пусть бы покатались вволю, но боязно — опрокинутся, зальются — с хозяина первый спрос. Сюда, к бревну, на дуриком заросший берег, не каждый прибежит. К тому же пока цепь не перепилишь — не уплывешь.
Поблаженствовал на своей пристани Прокопий из трех недель отпуска только полторы. Чего только не переделал. Лавы из старых плах сработал, последние стойки с перекладинами на сажень занес, чтобы прямо с лав в воду можно было прыгать. Под бугром возле кустов всю траву литовкой под самую пятку вычистил, шалаш построил, рахи сушильные для сетей вдоль берега протянул. Первые три дня дома ночевал, а потом сказал Соне:
— Неохота от речки уходить. Там спать буду.
— Поглянулось так? — спросила она.
— Поглянулось… Вольно. Прямо душа поет, честное слово.
— Тогда и мы с Вовкой придем.
— Приходите.
Соня была моложе Прокопия на девять лет, и в деревне, в первые годы их жизни, нет-нет да и появлялся слушок: «Боится Прокопий Соньки-то, как раб служит, а она все брындеет. Старый он для нее!» Прокопий, когда доходило до него это, готов был морды сплетникам бить, а потом решил поговорить с матерью: от совета старого человека голова не заболит. Мать успокоила его:
— Плюнь на ето. Напраслина.
А с тех пор, как Соня принесла двойню, Миньку и Олега, Прокопий в ответ только посмеивался:
— Брось смешить Евлаху-то, она и так смешная!
Не легкой была его дорожка к Сониной любви. В сорок втором году ушел на войну. Служил в десантной бригаде. Где только не был: и Свирь форсировали, и у Балатона в рукопашную с фашистами сходились, и за Прагой последних «тигров» дожигали. И на Восток впоследствии их тоже не пряники есть перебрасывали. Много повидал Прокопий, стоимость жизни определил не по книгам. После войны еще три с половиной года отслужил.
Думал, как вернется домой, так вся благоустроенность сама ему в руки и приплывет. Едва погоны снял, разъездным механиком в МТС поступил. Деньги были и хлеб, а благоустроенность не «приплывала». Бывал, чего греха таить, и в компаниях с женщинами, но получалось все как-то через дугу, по пьянке. Одна охулка, не больше.
И хорош был собою: голубоглаз, беловолос, легок, как стрепет. И ордена с медалями во всю грудь. Возьмет гитару, запоет: «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. И не спишь до рассвета, все грустишь обо мне!» Подпевают бабы, целоваться лезут. Выберет какую, поглядит на нее: «И нашто ты мне сейчас нужна, милая?» И опять захолонет в сердце, как, скажи, в колодце.
Было и такое. Приголубит иную, а наутро со стыда глаза поднять не может. Хуже всяких воров считал Прокопий блудников. А тут на эту же стежку сам выходил.
Самое это было расплохое время. Пить начал, смешать хотел ум-то с безумностью. Сонька выручила. Работала она мастером на молокоприемном пункте. Дни и ночи там пропадала. Отец на войне погиб, мать умерла, старшую сестру Прасковью трактором задавило, осталась с парнишкой Прасковьиным — Вовкой. С хлеба на воду перебивались. Ни коровы, ни курицы. Если бы не обрат да пахта, что на молзаводе выдавали, и еще небольшой огородишко, и Вовке бы не удержаться.
Однажды поздно вечером шел пьяный Прокопий с бабьих посиделок, и все одни слова звенят в голове: «Выпей, Прокопьюшка, за Петров денек. Последняя кукушечка сегодня откуковала!» Застряли в голове глупые слова и стоят и стоят, и повторяет их Прокопий для чего-то. Поравнялся с девчонками, прохрипел:
— Здорово, последние кукушечки!
И прошел. Слышит, разговаривают они:
— Сейчас остановлю его!
— Сдурела! Пьяный ведь!
— Ничто, башкой об угол не ударится. Остановлю.
Подбежала одна, дернула за плечо:
— Стой!
— Ну, стою.
— Пойдем, на лавку сядем, — потащила его к палисаднику. Заругалась:
— Ты пошто пьешь-то? А? Кукушечка улетит, дак после нее хоть что-то останется, а у тебя?
Прокопий плакал у Соньки на коленях пьяными едучими слезами. А наутро сказал себе, как отрезал: «Не тот азимут взял! Хватит!»
Он ждал ее каждый день за деревней, у молокоприемки. А она, пока все молоко не просепарирует и фляги не отгрузит, не выходила. Зато потом необыкновенно счастливые были минуты.
Заспешил Прокопий со свадьбой. Да правду говорят: кто спешит, тот и опаздывает. Появились в то лето в деревне еще одни «демобилизованные». По амнистии прибыли в родные места. Все законно. Давно деревня не видела их, еще до войны были посажены: Колька, по фамилии тоже Переверзев, а по прозвищу Якут, Санько Шмара и Аркашка Жареный. И не приведи бог было видеть. Всю власть в деревне взяли в свои руки. Якут — мужик паровой, с глазенками острыми, как шилья, после первых радостных встреч и попоек, подозвал к себе Прокопия и ласковые такие слова сказал, хоть к ране прикладывай:
— Ты, Прокопий, девчонку тут одну водишь, так ты оставь ее. Тебе шалашовок хватит. Понял, Прокопий? Ну, на пятак!
— Не шути, дядя! — обозлился Прокопий. — Я к этой девушке всю войну шел!
Якут крепко держал Прокопия за рукав гимнастерки.
— Ты шел, а мы сидели! Есть разница? Ну вот и все. Если будут возражения, мокроту могем сделать. Понял?!
Прокопий отсек ладонью руку Якута, защипнувшую рукав:
— Отцепи фалу! Сидел он, ишь ты, заслуга какая! Не на войну ходил, а сидел! С такой-то рожей!.. А что было бы, если б и остальные отсиживались? И еще запомни: если против меня что задумаешь — без парашюта прыгать заставлю!
…Они встретили его той же ночью, на ветхом мостике через Суерку, когда он, проводив Соню, спешил домой.
Загородили дорогу.
— Раздевайся, Прокопий! — Якут был так же предельно ласков и спокоен. — Сапожки сыми, брючки!
Прокопий быстро оценил обстановку.
— За что, ребята? — прикинулся он.
— Не шуми. Знаешь за что. Раздевайся! Ну!
Прокопий наклонился, будто пытаясь снять сапог, и ударил стоявшего спиной к перилам Жареного, точно и чисто, как когда-то учили его в маленьком подмосковном городке командиры-десантники и как впоследствии он учил других. Жареный перевернулся через перила и плюхнулся в речку. В это же мгновенье, охнув, опустился на бревенчатый настил Шмара. Оставался Якут. Прокопий ясно увидел в его руке финку и на секунду растерялся. Но Якут не ударил его ножом. Он резким движением секанул Прокопия по уху и ощерился: