А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.
— Гербаты хцешь?[6] — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.
Я точно с неба свалился.
С той норы я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!
Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день, — жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.
Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город, например? Неужели больше делать нечего, как следить за другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглядываться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.
После такого вступления вы поймете, почему Эфроим Клоц, совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трефное у полковника и курю в субботу. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть на столечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!
— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрещину, чтобы не дерзил. Но я, кажется, опережаю события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.
На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает «все ходы и выходы». И, глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.
Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, имел крошечные ручки, красные щечки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торопливо, пискливым голоском, смеялся меленько — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.
Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.
— Добрый день, — говорю я ему.
— Добрый день, — отвечает он. — Куда это паренек идет?
— Просто так, гулять.
— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.
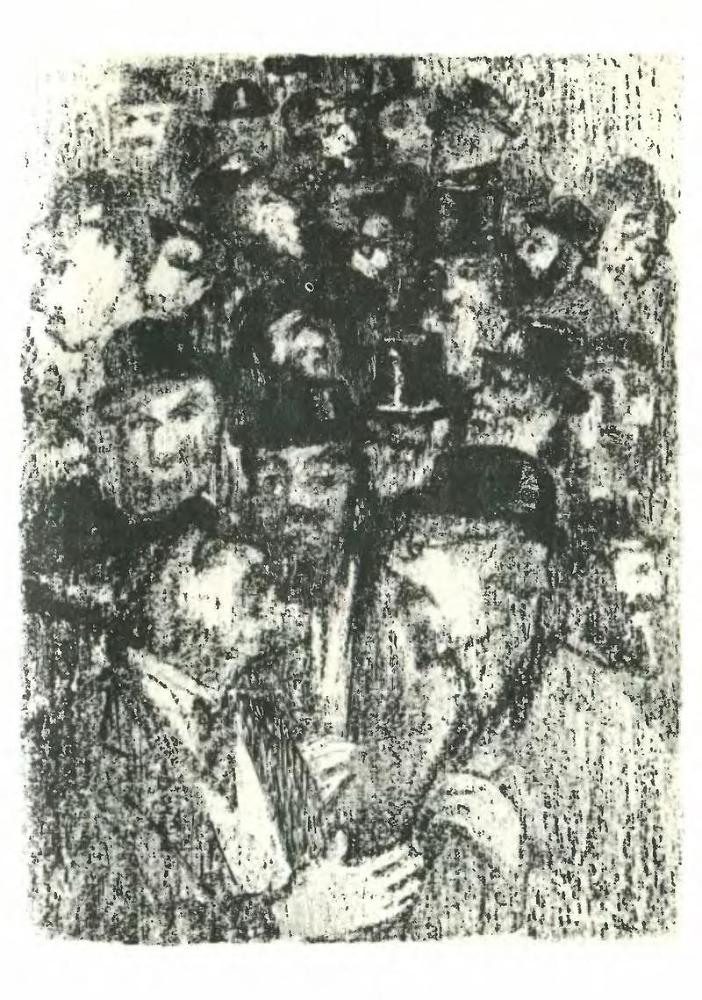
«Семьдесят пять тысяч»
Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и Эфроим остановился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы услышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.
Так и есть. Прихожу в исход субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и меленько смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнет бороду, выдергивает по волоску: верный признак, что он сердит.
— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.
— Откуда же мне быть? — отвечаю я.
— А я разве знаю откуда? — говорит отец. — Скажи ты, тебе лучше знать.
— Из синагоги иду, — отвечаю я.
А где ты был целый день? — спрашивает отец.
— А где мне быть? — отвечаю я.
— Почем я знаю, — говорит отец, — тебе лучше знать.
— В синагоге, — отвечаю.
— Что же ты там делал, в синагоге?
— Что мне там делать?
— А я знаю, что тебе там делать?
— Я изучал…
— Что же ты изучал?
— Что мне изучать?
— Откуда я знаю, что тебе изучать?
— Я изучал Талмуд.
— Какой трактат ты изучил?
— Какой же мне изучать?
— Откуда я знаю какой?
— Трактат «Суббота» я изучал.
Тут Эфроим Клоц сыпанул своим меленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.
Мать это услыхала из соседней комнаты и вбежала с криком:
— Нохим! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если сват узнает?!
……………………….
Мать была права. Гершл Бал-таксе проведал обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.
Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня — ничто не помогло.
— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне, — сказал он, — такого позора!
— Да пусть оно пропадом пропадет! — изливала душу мать. — Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена…
Вместе с другими пришел проведать отца и капельмейстер Чечен.
Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:
— Ой, пан полковник, пан полковник!..
Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.
Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!
6
Чаю хочешь? (польск.).