Пусть себе добрый Руй Ваз изливает в бесполезных проклятьях свой праведный гнев, а мы последуем за достойным францисканцем в особую трапезную, оттуда в другой покой, еще в один, пока наконец не окажемся в самом кабинете, — воспользуемся этим современным и банальным словечком, столь ходовым в наши дни, — личном кабинете его преосвященства.
В ответ на условленный стук, свидетельствующий, что стучит посвященный, коему открыт доступ в покои, куда нет хода прочим смертным, знакомый читателю голос ответил из-за двери:
— Войдите, брат Жоан, войдите.
Брат Жоан вошел.
Перед ним стоял епископ во всем великолепии первосвященнических своих облачений.
Длинная пурпурная мантия, влачившаяся по полу, была оторочена горностаями, достойными самого короля. Блистающий самоцветами нагрудный крест, расшитые перчатки, сверкающий перстень, митра, которую епископ держал в руке, — все говорило о том, что князь церкви собирается предстать во всем величии, во всей престольной пышности пред своим народом.
Брат Жоан дивился и разглядывал епископа с головы до ног с видом человека, который с трудом верит собственным глазам и не решается высказать свои чувства.
Прелат улыбнулся с достойною и сдержанной миной:
— Судя по удивлению, с коим вы нас созерцаете, можно было бы подумать, преподобный брат Жоан, что вы никогда не видывали нас в епископских одеяниях. А ведь по сути, почтенный брат, сие облачение есть самое для нас подходящее соответственно апостольской миссии, возложенной на нас божественным пастырем и его наместником на земле, милостью коего вверен нам посох и перстень, дабы властвовать и править, ибо поставлены мы в епископы — именуется же сие инвеститурою{64} — не какой-то суетной мирскою властью, каковой мы не признаем и каковую почитаем ничтожною и бессильною в отношении нас и наших правомочий.
— Разумеется, разумеется…
— И в таком обличии явимся мы ныне на празднество и молебен в честь святого Марка и предстанем во всем величии церковной власти перед добрым нашим народом, ведь он давно уже не зрит своего пастыря в одеяниях, знаменующих сию власть, а превыше нее нет власти на земле за исключением престола святого Петра в Риме;{65} лишь пред ним склоняемся мы, перед мирскою же властью — никогда…
Едва пастырь, исполненный гордыни и духа ультрамонтанства,{66} произнес эти последние слова, как послышался неразборчивый, но неистовый гул голосов, он разразился внезапно, но не стихал, напротив, усиливался, приближался и, казалось, уже раздавался совсем не в отдалении.
То была власть народа, провозглашавшая на улице Святой Анны свое вступление в права — инвеституру всегда кратковременную, но всегда грозную и неоспоримую.
— Что это может быть?..
— Бунт народа? Невозможно. Из-за чего бы?.. Разве что, если… Сейчас узнаем, я слышу шаги Перо Пса. Ступайте прочь, Андре Фуртадо, — продолжал епископ, адресуясь к облачавшему его челядинцу, — оставьте нас, ваши услуги мне больше не надобны. Алебардщики пусть будут наготове; пусть служки уведомят членов нашего капитула, дабы пришли сюда составить мне свиту, как им положено.
На мгновение монах и епископ остались наедине; и за долю мгновения они успели обменяться таким взглядом, в глазах у обоих мелькнули такие вопросы и ответы… нет языка, на котором все это можно было бы описать.
И тут же вошел Перо Пес.
Мерзкие черты податного были чудовищно искажены страхом, вернее, ужасом, на лице у него отпечатались тревога и отчаяние, словно в предчувствии адских мук.
— Народ, — вскричал Перо Пес, — народ!
— Что происходит с народом?
— Он… он взбунтовался!
— Почему? Что ему сделали?.. Опять ваши штучки, Перо Пес…
— Мои штучки, сеньор!
— Да, ваши штучки. По какой еще причине мог взбунтоваться честный, терпеливый и добрый народ этого города? Только по одной — вы нанесли ему еще одну обиду. Вы слишком уж туго затягиваете ошейник податей, временами нестерпимо туго, мой бедный Перо. Рыбаки жалуются, торговки бранятся, даже фламандцы и те плутуют{67} при взвешивании сыров, боясь чрезмерных пошлин… Смотрите у меня, Перо Пес, вы слишком усердствуете, когда доите корову, усердствуете сверх меры… а я не хочу, чтобы в подойнике была кровь…
— Сеньор, сеньор!.. Я дою корову… а фламандцы… И в подойнике кровь!.. Кровь! Это моей крови они хотят, смутьяны, подлый сброд, вон сколько их собралось, больше, чем сардин в косяке. Но… да просветит мою душу господь бог… или дьявол, ведь она уже в его власти… Простите меня, я сам не знаю, что говорю.
— Не знаете, оно и видно.
— Не знаю, не знаю, так и есть; но знаю я, что на сей раз народ взбунтовался не из-за налога на привозные товары, не из-за десятины, не из-за дорожной пошлины. Все дело в том, что они проведали… догадались… либо сам дьявол, пособник мой, им рассказал о том…
— О чем, Перо Пес?
— О том, что содеял я нынче ночью по вашему приказу.
— Вон оно что! — сказал епископ; он поглядел на брата Жоана, и тот позеленел, покраснел, пожелтел, почернел, — ни дать ни взять изменчивая радуга, переливающаяся всеми оттенками страха.
Затем последовало недолгое, но глубокое молчание.
Взрыв воплей, прозвучавший еще неистовее и еще ближе, потряс воздух, словно удар грома, предвещающий грозу.
— Где эта несчастная? — пробормотал брат Жоан. — Может быть, мы еще успеем…
На лице у епископа появилось выражение важности столь невозмутимой, что дрожащие его приспешники и советники испугались и растерялись; он холодно отвечал:
— Женщина, которую прошлой ночью препроводили в нашу тюрьму в силу имеющихся в нашем распоряжении веских и убедительных оснований, была допрошена нынче утром и сейчас находится в наших покоях в особой горнице. Оттуда она вернется в место заключения. Возьмите ключи, брат Жоан, и отведите эту женщину в темницу, где она и останется, покуда это будет благоугодно нашему правосудию. Вы пойдете потайным ходом.
— Правосудие! Правосудие! Правосудие короля дона Педро!
— И народа!
— Смерть Перо Псу!
— Аниньяс, Аниньяс!
— К дьяволу пошлины и сборщиков!
— Наши вольности, вольности, дарованные нам решением в монастыре святого Георгия!
— Что они говорят?
— Вопят, требуют, чтобы вмешался…
— Король?.. Бедняжки… И требуют, чтобы соблюдалось это дурацкое решение, принятое в монастыре святого Георгия, с которым мои предшественники имели слабость согласиться?.. Ну что ж, это дело гроша ломаного не стоит, его можно уладить без промедления. Ступайте, брат Жоан, и делайте, как я велел. Перо Пес, мои алебардщики, мои клирики. Все сюда и следуйте за мной: досточтимые члены капитула, должно быть, уже ждут у дверей.
Глава XV. «Ессе sacerdos magnus»[15]
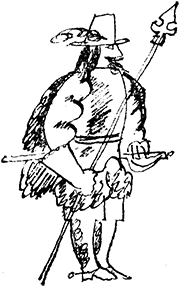
Епископ вышел: в соседнем покое его ждали домочадцы и свита. Каудатарий{68} подхватил длинную пурпурную мантию, и епископ, прямой и высокий, прошествовал по нескончаемой анфиладе комнат и залов просторной резиденции. Клирики, изумленные и безмолвные, шли сзади, алебардщики шагали впереди. В таком порядке они торжественно спустились по лестнице и остановились в сенях перед главным входом.
Великолепное зрелище открылось бы взорам тех, кто оказался бы на небольшой площади, какие у испанцев именуются «пласуэла», — она была замкнута фасадом старинного собора, дворцом епископа слева от него и маленькими домиками напротив, где, возможно, уже тогда жили, как живут теперь, члены соборного клира; справа же все замыкает высокий взгорбок, откуда спускается лестница, ведущая к Сан-Себастьяну и ко всему второму плато — если можно так выразиться — древнего города, пристроившегося на крутом склоне города, дома и улицы которого словно сбегают с высокого холма, где вздымается собор, вниз, туда, где ныне находится Порта-Нобре, у самого подножия горы, близ реки.