Вооруженный народ погнал обмороженных «шаромыжников» [3] по голодной дороге, навстречу тифу и штыкам, и Саша снова утонул в занятиях. Он уже видел себя мореплавателем, посещал незнакомые миру страны, прокладывал через океаны новые пути и любовался чудесами субтропической и полярной природы. Подготовка шла удачно. Оказалось, что по ряду предметов он знал гораздо больше, чем нужно. Все было превосходно, кроме… дифференциальных и интегральных исчислений, о формулы которых, как об острый риф, разбивался быстрый корабль воображения и надежд. Здесь Саша оказывался бессильным. Терпение его иссякало. Гнев туманил мозг. Когда Николай с Морским корпусом вернулся из Свеаборга, между братьями произошел серьезный спор.
— Ужели нельзя быть хорошим моряком без этого? — с негодованием спрашивал младший, — Ужели гений Колумба нуждался в этом хаосе цифр с плюсами и минусами?
— К чему пустые разговоры? — отвечал старший. — Как не понять, что именно эти плюсы и минусы дали средства Колумбу стать великим мореплавателем? В них почерпал он силу и терпение.
Николай Александрович достаточно знал характер брата, чтобы усомниться в прочности его морских увлечений. Ему было жаль Александра. С предусмотрительной осторожностью, как самый внимательный и нежный отец, он стал развертывать перед ним действительную картину прозаической и тяжелой жизни моряка. Александр слушал и молчал. Мечты его рушились. Казнокрадство адмиралов и офицеров, гнилые корабли на Маркизовой луже, изрытые розгами матросские спины, пьянство и хамство кают-компаний— все это постепенно ослабляло пароксизмы «морской лихорадки», и Николай Александрович исподволь все увеличивал да увеличивал дозы лекарства,
— Знаешь, Николаша, — сказал ему, наконец, Александр с грустной улыбкой, — я убедился, таким моряком, как хотелось мне, я никогда не смогу быть, а таким, как другие, ни за что на свете не буду.
Пароксизмы исчезли, и Александр забросил морские учебники. Гардемаринские галуны прибавили Мишелю храбрости перед незадачливым братом.
— Не стыдно ли тебе поворотить с полдороги? — говорил он менторски. — Ужели ж пойдешь ты в армию вытягивать носок?
— Э, нет, — отвечал Александр, — ты увидишь, что нет. Я буду артиллеристом или инженером. А вернее — артиллеристом, как покойный батюшка.
Снова раскрылись учебники. Но изучение свойств порохов требовало знания физики и химии, а физика и химия — математики. Вобан был великим фортификатором, но тригонометрия была для него домашним делом. Александр ходил в Педагогический институт слушать лекции профессора Соловьева по математическим наукам и возвращался домой со вздохом. Дома же строились маленькие крепости и разбивались пальбой из крохотных пушек, снятых с модели когда-то столь тщательно построенного фрегата. Мины взрывались в спальне Александра, а фейерверки со щитами и фонтанами пылали по высокоторжественным дням перед окнами спальни Прасковьи Михайловны. Все это было очень интересно и красиво, но… Николай Александрович ясно видел, что Александру не суждено ни строить крепостей, ни разрушать их, совершенно так же, как не суждено было плавать на кораблях.
Однажды старший Бестужев приехал в домик на Васильевском острове не один. Из саней выскочил сперва генерал, молодцеватый и бравый, в светло-зеленом, густо зашитом золотой канителью мундире, в шляпе с лихо развевавшимся пестрым плюмажем, в белых лосиных панталонах, засунутых в огромные ботфорты, — генерал-картина, годный для любой выставки генералов, если бы такая выставка вдруг где-нибудь открылась. За ним следовал Николай Александрович с озабоченным лицом. Гости прошли в гостиную. Прасковья Михайловна радостно всплеснула пухлыми руками, белыми как сметана. Она любила этого веселого и добродушного генерала — давнишнего сослуживца покойного Александра Федосеевича. Когда-то он часто бывал у Бестужевых и подолгу сиживал за трубкой в кабинете хозяина. Потом посещения стали реже и, наконец, почти вовсе прекратились. Генерал-майор Петр Александрович Чичерин командовал лейб-гвардии драгунским полком и метил в командиры кавалерийской бригады — он делал карьеру.
Покончив с воспоминаниями, дав и получив дюжину справок о старых знакомцах, раскритиковав погоду и цены на овес и верховых лошадей, генерал спросил хозяйку:
— А позвольте, матушка, узнать, что поделывает у вас друг мой Саша? Остальные детки ваши все на виду — один офицер, двое гардемарины, последний — кадет. А вот о Саше ни слуху ни духу.
Прасковья Михайловна потупилась. Это было ее больным местом. Генерал встал с кресла и, гремя шпорами, принялся делать затейливые зигзаги по маленькой гостиной.
— Говорят: учись, служба не пропадет. А я говорю: служи, ученье не пропадет. Что толку в том, что он способный малый. Да, может, все учителя ему просто льстят… Не так надо, матушка Прасковья Михайловна. Пошлите-ка его в манеж учиться. Лошадь не льстит — тотчас сшибет седока, ежели он ездить не умеет. Э, да я знаю, что с ним делать. Зовите сюда молодца!
Александр вошел в комнату, не предчувствуя, что судьба его решена. Его бледно-синий фрак с золочеными пуговицами, белый батистовый галстух, застегнутый двумя блестящими запонками, заставили генерала покачать головой.
— Друг мой, Саша, — сказал он с упреком, — ты не любишь фрунта, а хочешь быть полезным военной службе по ученой части — прекрасно! Но одного желания мало, надо иметь возможность. Этой возможности нет без обер-офицерских эполет. Но ведь их тебе у нас не дадут без знания фрунта, хоть бы ты звезды с неба в рукав собирал. Итак, горькой этой участи тебе не миновать. Мы же постараемся ее облегчить, сколь сие возможно. Вот мой совет: я беру тебя в свой полк юнкером. Месяцев пять-шесть ты потрешь солдатскую лямку, а потом — офицер, и тогда свободен. Я же благословлю тебя на все четыре стороны, держи экзамен хоть прямо в начальники штаба.
— Спасибо тебе, батюшка Петр Александрыч, — проговорила Прасковья Михайловна. — Что ж ты, Саша, онемел, что ли? Благодари скорей его превосходительство!

Пожар Москвы. Картина художника Вендрамини.
АПРЕЛЬ 1816 — НОЯБРЬ 1817
Да здравствует разум!
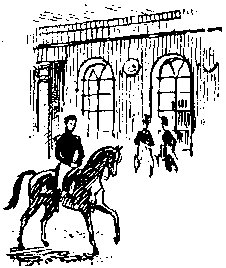
Высокий, на четырех крючках, непомерно жесткий воротник душил, как собачий ошейник. Поясницу сковывал тугой, как корсет, зеленый мундир из толстого солдатского сукна. С восьми часов утра и до вечера — в манеже. Овес и лошади, мундштуки и шенкеля, ординарцы и скорый смотр — других разговоров не слышно. Это началось 12 апреля 1816 года.
Александр всегда любил лошадей. Здесь было раздолье. Из двух жеребцов эскадронной конюшни, на которых новый юнкер остановил ослепленный взгляд, — рыжегалого в масле, с лебединой шеей, глазами навыкате и таким оскалом, что в ноздрю хоть кулак суй, Александру дали под верх. Лошадь оказалась злой. Рыжегалый бил передними ногами о землю, стараясь сбросить седока, и то и дело звякал мундштучными дужками о стремена, пытаясь ухватить его за носок.
Эскадронный командир, усатый и горластый капитан Климовской, долго смотрел, как Александр крутил по манежу на своем звере. Наконец обернулся к низенькому поручику с кривыми ногами и сказал:
— Сидит покамест немудро, но рука золотая. Александр тут же дал себе слово превратить свирепого Камрада в танцовщицу, повинующуюся малейшему движению партнера. Силы и игривости в коне было с избытком. Оставалось помучиться самому и хорошенько вымучить лошадь.
При виде плохого ездока эскадронный командир кричал так, что в манеже дрожали стекла:
— Вахмистр, бери его за нос, он — физик!
И вахмистр выводил юнкера из езды. С Бестужевым этого не случалось. А случись — умер бы от позора.
3
От cher ann (фр.) — милый друг,