Бестужев часто ездил в Минск. Там стоял штаб полка, и только оттуда можно было отправлять письма. Город был набит генералами и офицерами так туго, что скверный театр и танцевальный клуб, именовавшийся «Казино», были почти недоступны для старожилов. В «Казино» танцевали кадрили в сорок пар, котильоны и бесконечные вальсы с фигурами. После — ужинали и играли в карты. Мелки прыгали по сукну столов, карты летали из рук банкометов, червонцы брякали, и чубуки переставали дымиться в бледных губах, исковерканных корыстью и страхом.
Вино и карты никогда не лишали Бестужева самообладания, но хорошенькие городские польки, каждая из которых чем-нибудь походила на Сидалию и чем-нибудь от нее отличалась, в конце концов закружили драгуна. Они шнуровались до дурноты, были веселы и свободны в обращении с мужчинами, снисходительны к порывам и легкомысленны. Бестужев оглянуться не успел, как погиб для Сидалии.
«Пьянствую и отрезвляюсь шампанским, — писал он Булгарину, — жизнь наша походит на твою уланскую. Цимбалы гремят, девки бранятся… чудо!»[16]
Однажды Бестужева вызвал к себе генерал Чичерин, квартировавший в Минске.
— Любезный Саша, — спросил он, с удовольствием глядя на возмужавшего и поздоровевшего за время похода офицера, — знаешь ли ты новость, которая должна доставить большую приятность твоей маменьке?
— Мне известно, что брат Мишель вернулся из Архангельска в Кронштадт, — сказал Бестужев с недоумением.
— Э, нет, любезный мой, не то, — хитро прищурился генерал, — дело идет о тебе. Ну, да бог с тобой, мучить не стану. В бытность мою в прошлом месяце в Петербурге говорил я о тебе с графом Комаровским. Вот его предложение: он берет тебя к себе в адъютанты, а я тебя отпускаю. Собирайся в путь.
Бестужев вышел от генерала в состоянии самом сбивчивом. Выгоничи, Минск, трактиры, цукерни, адъютантство, дорога, Петербург, братья, литература — было от чего голове вскружиться…
Кончился 1821 год. Новый, 1822, застал Бестужева еще в Выгоничах, но уже собиравшегося в Петербург и довольного судьбой, которая по крайней мере не завела его в курную хату и не заставила слушать новогодние приветствия петухов. Он ждал приказа о переводе, по собственному его выражению, «как протопоп — светлого воскресенья».
ЯНВАРЬ 1822 — ДЕКАБРЬ 1822
Лишь тот достоин жизни
и свободы,
Кто каждый день за них
идет на бой!
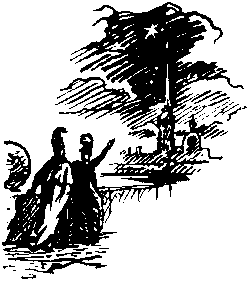
Петербург встретил нового адъютанта так приветливо, как будто для пополнения армии столичных адъютантов только и не хватало именно его, Бестужева. На Васильевском острове, на 6-й линии, против Андреевского рынка, все так же пахло смолой, канатами, пенькой, Невой, а семейный кружок Бестужевых, как и в прежние времена, теснился вокруг черной вдовьей мантильи заметно постаревшей Прасковьи Михайловны.
Мишель был недавно произведен в лейтенанты и выглядел вполне взрослым человеком.
Адъютантские аксельбанты быстро раскрыли перед Александром Александровичем двери знатных и богатых домов, куда обычно молодые люди, не носящие блистательных фамильных имен, допускались только с основательным отбором. Большой свет всегда манил Бестужева, обещая его воображению множество романтических впечатлений. Теперь, наконец, он мог разглядеть чопорные и сухие лица министров, дипломатов, генерал-адъютантов, прислушаться к невежественным разговорам этих чиновных людей, которые взирают на царя со скотским благоговением злобных псов и от него одного чают блаженства. Хоть здание их жизни ветхо и качается от ветра, но они спокойны, так как понимают, что Сибирь в России начинается от Вислы. Они спокойны, ибо все в России им кажется поконченным, запакованным, сданным за пятью печатями на почту для выдачи адресату, которого заранее решено не разыскивать. Они наслаждаются существованием под одним общим для всех уровнем невозмутимого бессилия.
Болезненное чувство самолюбия, всегда несколько мучившее Бестужева, здесь было вполне удовлетворено— дважды удовлетворено. С одной стороны, получив доступ в этот позолоченный парник салонных бездельников, Бестужев поднимался в глазах людей одинакового с ним общественного положения на пьедестал светскости, для них недосягаемый. С другой, он имел все основания презирать то, к чему они стремятся, так как в превосходстве своей мысли, над светской пустотой ему сомневаться не приходилось. Как и всегда, достигнутое казалось ему жалким, и это придавало весело-саркастический характер его шуткам.
В гостиных шепотом и с оглядкой говорили о событии необыкновенной важности: цесаревич Константин Павлович окончательно и бесповоротно отрекся от русского трона. Рассказывали о письме его к императору, об ответном письме императора, но подробности никому не были известны, так как все дело велось в покоях императрицы-матери строго фамильным порядком. Утверждали, что именно для решения этого вопроса и съехалась в Петербург почти вся императорская семья, даже великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна прибыла из-за границы.
О молодом великом князе Николае, который должен был стать наследником престола, если Константин действительно отрекся, ходили дурные слухи. В армии его ненавидели за неумолимую строгость, придирчивость и фанатическое пристрастие к мелочам. Будучи жесток, как Павел, он был злопамятен, как Александр. Но самое скверное заключалось в том, что пустяки вызывали великокняжеский гнев и пустяками же снискивалось великокняжеское расположение.
По темной винтовой лестнице Зимнего дворца уже несколько раз поднимался прямо в кабинет Александра монах в рыжих козловых сапогах, в залатанной рясе, с хмурым лицом, на котором щека щеку ест, с огненным взглядом маниака. Этот человек умел говорить непонятные и страшные вещи. Тонкие синие губы архимандрита Фотия даже простое приветствие произносили с каким-то свирепым намеком на анафему. Первым следствием этих секретных свиданий был указ от 1 августа, которым запрещались все тайные общества, под какими бы названиями они ни существовали. Все военные и гражданские чины должны были дать подписку в том, что они в тайных обществах не состоят и состоять не будут. Петербург стал походить на муравейник трудолюбивых шпионов, четыре полиции ретиво работали, охраняя порядок в столице: полиция министерства внутренних дел, генерал-губернаторская, графа Аракчеева и, наконец, военная агентура гвардейского корпуса. В банях, в мелочных лавочках, на гуляньях, в театрах, на балах и в университете — везде кишело шпионами. Многие из этих «деятелей» носили камергерские мундиры и служили за честь, а не из благодарности.
Удивительно, что все усилия бесчисленных шпионов оказались напрасными, когда понадобилось обнаружить автора рукописной статьи, вдруг разбежавшейся по всему городу в сотнях списков. Статья эта едко, зло и правдиво излагала историю возмущения семеновцев в 1820 году. Булгарин сообщил Бестужеву под страшной клятвой молчания, что писал ее Рылеев, которого он называл своим истинным другом, Конрадом и Рылеусом. Бестужев потребовал, чтобы Булгарин свел его с Рылеевым, и знакомство, вероятно, давно бы уже состоялось, если бы не рассеянная жизнь Александра Александровича, кочевавшего в продолжение всей весны с бала на бал.
Адъютантство при графе Комаровском нравилось Бестужеву. Но скользкие насмешечки Греча, находившего, что войска внутренней стражи — пятая по счету полиция в России и что Бестужев, как ни кинь, служит в полиции, отравляли удовольствие, которое может приносить беспечному молодому человеку прекрасное служебное положение почти без всяких обязанностей. Светские связи и отношения легко вывели Бестужева из затруднения. 5 мая в приказе по гвардейскому корпусу было объявлено о его переводе на должность адъютанта к главноуправляющему путями сообщения в империи генерал-лейтенанту Бетанкуру с оставлением в списках лейб-гвардии драгунского полка.
16
Письмо от 14.I 1822 («Русская старина», 1906, февраль).