Таня засмеялась, хохотала пуще и пуще:
— Кибернетик Вася!
— Напрасно смеёшься, — сказал дядя Петя, морщась. — Любовь умеет… вот увидишь! Кстати, он но знает, что я твой дед. И ты уж не выдавай, пожалуйста. И вообще, не вмешивайся.
— Пожалуйста! Я с ним встречаться не собираюсь.
— А зря. Ты его не знаешь. Сходи с ним…
— В цирк! — перебила Таня едким голосом.
— Славная мысль! Люблю цирк! Там сейчас выступает молодая укротительница тигров. И какой-то замечательный клоун. Пишут, восходящая звезда!
— Да я их видеть не хочу!
Дядя Петя лукаво прищурился, как всегда, когда бывал в отменном настроении:
— Хищников?
— И Васю.
— Твоё дело, — сказал дядя Петя и, привстав на носки своих заляпанных брызгами башмаков, снял со шкафа скрипку.
— Интриганы, — буркнула Таня.
На этот раз дядя Петя долго смотрел на Таню и подыскивал формулировку.
— Каждый человек — неоткрытый клад.
— И Вася?
— Вася — это фигура.
— Двухметровая.
— Скажи спасибо, что я убираю двухметровую фигуру из-под твоего окна.
— Спасибо.
Вася затемно поднялся на чердак, мокрый, с улыбающимися глазами, и чемоданчик принёс, и шинель, и даже присел, однако тихо пробасил куда-то в сторону:
— Попрощаться пришёл. Уезжаю.
Вскинув седые брови, дядя Петя уставился на него.
— Прощайте, — сказал Вася.
— Ставьте чемодан.
Вася поставил чемодан поближе к ногам.
— Раздевайтесь.
Вася сцепил руки до побеления в ногтях.
— Вчера мы тут разбушевались с вами… Закипели сгоряча…
— Сдрейфили?
— Нет. Ваш закон жизни мне нравится.
— Лишние слова!
— Это здорово, что я вас встретил!
— И не льстите, молодой человек. Не выношу!
— Ладно, не буду.
— Малодушие на первых шагах… Это… это… это позор!
— Всё так. Да только нельзя мне тут оставаться… Тут я… тут она!..
— Кто?
— Таня. Её Таня зовут…
Дядя Петя отвёл глаза. Он уж и забыл про Таню и даже рассердился на неё сейчас. Получалось, что она окрыляла Васю, она и мешала ему. Чушь какая-то! А Вася признавался:
— Пропаду я здесь. Увяну… Прощайте.
— Ну что ж… Вы, Василий, хозяин сами себе…
Ещё что-то хотелось сказать очень важное, но в голову лезли всякие формулировки, и дядя Петя не сказал ничего, только встал. Вася шагнул к нему.
— Обнять вас хотел…
Они обнялись коротко от ненужной тоски, два, в общем-то, незнакомых человека.
— Я вам напишу, — пообещал Вася.
Дядя Петя подумал, что фамилии-то его гость не знает. А может, узнал? Адреса не записал… Неважно это…
— Прощайте, — в третий раз обронил Вася и подцепил чемодан. — Это… скрипка?
Он постоял, толкнул дверь и, выйдя, придавил её за собою.
А дядя Петя открыл футляр, взял скрипку и долго играл. Покачивался, закрывал глаза. Сам себе Паганини.
Городской дождь
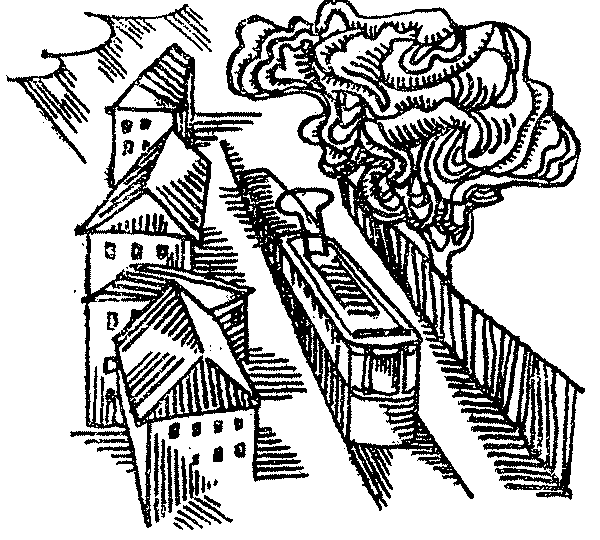
Настя вышла из-под козырька вокзальных дверей, поёжилась. Показалось холодно — плотно садился дождь. Он почернил решётку, за которой стояли голые тополя, до голубизны отмыл их толстые стволы, чистым красным цветом окатил крышу грязного автобуса.
На асфальте блестела плёнка воды, и мелко дрожали лужи.
Городской дождь не понравился Насте. Деревенский дождь будил ручьи, разливался, резвился. Даже маленький, он озорничал в канаве под окном, застревал в берёзе у мостка, чтобы затем, подловив тебя, ворохом быстрых капель сорваться с листьев на голову.
Дома от дождя было свежо. А здесь зябко.
Кто-то подтолкнул Настю сзади. Боязно было отрываться от вокзала, она зашагала по тёмному асфальту, пригнув голову. На углу села в трамвай, и в трамвае заметила, что только она ещё и втягивает голову в плечи, будто в вагоне идёт дождь. Вокруг толклись и поругивались, пареньки с кожаными папками смеялись и, вертясь, протискивались мимо, обтирая мокрые плечи о Настины щёки.
За окном трамвая качались дома. Дождь полз по высоким стенам. И Насте снова сделалось холодно.
Вот когда ей страшно-то стало. Настя уже не видела ни города, ни дождя, а только маму, сухую, непохожую на себя. Сидя возле кровати, Настя держала её руку, тихонько гладила. Подходил отец, тоже брал мамину руку, говорил:
— Встанешь, мы с тобой по ягоды пойдём.
Когда это они по ягоды ходили? Настя не помнила такого. А мама не то что до ягод, до снега не дожила.
Настя собственному голосу и слезам не верила. Казалось, что и брат Минька приехал просто показаться в своей флотской форменке. Девчонки пялились на эту форменку, как в кино. А Минька среди ночи ушёл к поезду, потому что отпуск ему дали короткий. Отец побрёл провожать его на станцию.
Вернувшись, он кричал, чтобы Настя ещё достала поесть. А где? Ночью-то?
Девки бегали, брали Минькин адрес, писали: «Жду ответа, как соловей лета». Соловей не откликался. Настя тоже писала, что дома всё хорошо, только отец пьёт часто. Минька прислал письмо на полстранички. Не давай, мол, пить, дура, останови… А как?
Остановила его Клаша Ерёмина.
Когда переселилась Клаша в дом, Настя проплакала сначала несколько дней. Обидно было, перебирая картошку в колхозном амбаре, слышать про отца: «Бойкий-то мужик ещё — кинул сеть, поймал рыбеху!» А потом даже обрадовалась: перестал отец требовать водку. Зато начал стесняться Насти, когда Клаша молча взбивала по утрам подушки. И полезли в Настины уши незаметные раньше гулы, стала Настя слушать ночные поезда.
На станции отец скрючился под фонарями, как прибитый, всё смотрел в сторону, точно ему глаза резало. Станция у них на открытом перегоне, и ветер, правда, сек резко. Настя громко сказала: «Ну-ка!» и подняла отцу вытертый воротник тужурки. Он до самого поезда молчал, а уж как поезду отойти, спросил:
— Может, ещё останешься?
— Поеду, — сказала Настя.
Отец стал рыться в карманах, нашёл и сунул ей бумажный комочек. Она растерянно взяла, в вагоне развернула — три рубля. Знала, что и так все деньги собрал ей на билет, и у неё непонятно защемило в груди. Хотелось зареветь в голос, но Настя задавила это в себе, потому что на полках спали соседи. И боль осталась в Насте. И Настя чувствовала её сейчас, в трамвае, хотя глаза удивлялись тому, какие девушки мелькали за мокрым окном, на тротуаре, в разноцветных платьях и прозрачных обёртках, ну прямо как конфетки!
В центре Настя сошла. Отсюда она помнила дорогу к двоюродной тётке. Считалось, что Настя поехала жить у тётки и учиться, но про учёбу она пока только думала. Хотелось бы на хорошую работу, справить себе кой-чего, туфли купить, а тогда уж потихоньку присмотреться, на кого выучиться.
Как и в прошлый раз, когда Настя приезжала сюда с мамой, отбитая водосточная труба свисала с крыши тёткиного дома до второго этажа. Из трубы торопливо капало, и внизу, в луже, плясал окурок. Примет ли тётка? Ну, и не прогонит. Настя ничего ей не писала, боялась, что не ответит. А приехала так приехала!
Она постояла перед дверью на втором этаже, глядя на синий ящик с незнакомой фамилией, и опасливо позвонила. На лестницу выглянула растрёпанная, животастая женщина.
— Вам кого?
— Мне тётю… Ковтунову, — робко сказала Настя.
— Ой! А они уехали давно! — воскликнула женщина, и глаза её почему-то весело заблестели.
— Куда? — прошептала Настя.
— Рудик! — разглядывая её во все свои блестящие глаза, позвала женщина. — Куда уехали Ковтуны?
Из полумрака коридора вышел патлатый длинношеий мальчишка в очках и сказал:
— В Белоруссию, а куда точно, не знаю. Я тебе говорю, у меня потеря памяти, а ты не веришь.
— Уходи! — толкнула его женщина. — Сумасшедший! Учи уроки!
Настя спускалась по лестнице, как во тьме, и на улице долго не могла сообразить, куда пойти, вправо или влево.
Потом вздохнула и огляделась. Окурок под каплями вертелся быстрее и подпрыгивал. Настя посмотрела на кошёлку в руке: там уместилось всё её богатство — два десятка яиц для тётки да свои вещички. Она сняла платок с головы, накрыла кошёлку и побрела не зная куда.