1929
Великий лагерь драматургов*
И он присоединился к великому лагерю драматургов, разбивших свои палатки на мостовой проезда имени Художественного театра.
Число заявок на золотоносные драматические участки увеличивается с каждым днем. Это можно легко увидеть, прочитав газетные театральные отделы.
«Пахом Глыба закончил для одного из московских театров новую пьесу, трактующую борьбу с бюрократизмом в разрезе борьбы с волокитой».
«Вера Пиджакова работает над пьесой „Легкая кавалерия“. Пьеса вскоре будет закончена и передана в портфель одного из московских театров».
«М. И. Чтоли переделал для сцены исторический роман „Овес“. Пьеса в ближайшем будущем пойдет в одном из московских театров».
Пойдет ли?
Ой ли?
Сколько лет мы читаем о новых пьесах Пахома Глыбы, Веры Пиджаковой и М. Чтоли. Мы узнаем, что пьесы эти закончены, отделаны, переработаны и приняты. Но где этот «один из московских театров», где «Легкая кавалерия», где историческое действо «Овес», с каких подмостков раздаются страстью диалоги, вырвавшиеся из-под пера т. Глыбы?
Нет таких подмостков, нет «одного из московских театров», ничего этого нет.
Есть великий лагерь драматургов, которые разбили свои палатки у подъездов больших и малых московских театров. И в этом лагере еще больше неудачников, чем в любом лагере золотоискателей на берегах Юкона в Аляске.
Под драматургом мы подразумеваем всякого человека, написавшего сочинение, уснащенное ремарками: «входит», «уходит», «смеется», «застреливается».
Первичным видом драматурга является гражданин, никогда не писавший пьес, чувствующий отвращение к театру и литературе. На путь драматурга его толкают тяжелые удары судьбы.
После длительного разговора с женой гражданин убеждается, что жить на жалованье трудновато. А тут еще надо внести большой пай в жилстроительную кооперацию.
– Не красть же, черт возьми!
И гражданин, прослышавший от знакомых, что теперь за пьесы много платят, не теряет ни минуты и в два вечера сочиняет пятиактную пьесу. (Он, собственно говоря, задумал пьесу в четырех действиях, но, выяснив в последний момент, что авторские уплачиваются поактно, приписал пятое.)
Заломив шляпу и весело посвистывая, первичный вид драматурга спускается вниз по Тверской, сворачивает в проезд Художественного театра и в ужасе останавливается.
Там, у входа в театр, живописно раскинулись палатки драматургов. Слышен скрип перьев и хриплые голоса.
– Заявки сделаны! Свободных участков нет!
Те же печальные картины наблюдает новый драматург и у прочих театров. И уже готов первичный вид драматурга завопить, что его затирают, как вдруг, и совершенно неожиданно для автора, выясняется, что пьеса его никуда не годится. Об этом ему сообщает знакомый из балетного молодняка.
– С ума вы сошли! – говорит знакомый. – Ваша пьеса в чтении занимает двое суток. Кроме того, в третьем акте у вас участвуют души умерших. Бросьте все это!
Все драматурги второго, более живучего вида находятся под влиянием легенды о некоем портном, который будто бы сказал:
– Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак все еще был как новый.
Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые.

В пьесы переделываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления.
Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекочевывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго.
Третий, самый законченный вид драматурга – драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков.
Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются льстивые телефонные звонки.
– Да, – говорит признанный драматург, – сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу.
– Да, – говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, – откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо!
Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство.
Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону.
– Да, – неизменно отвечает драматург, – моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини.
Но вот наступает день расплаты. Рассадив режиссеров по разным комнатам и страшась мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц.
Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом.
В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.
1929
Праведники и мученики*
Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино.
– Ужас! Ужас! – воскликнул маленький и толстый режиссер. – Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют?
– От нас требуют советскую картину.
– Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, – завизжал толстяк. – Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография.
– Да, – сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. – Порнографии теперь нельзя.
– Вот и скучища выходит, – закричал кинотолстяк. – Какая же это картина без порнографии?
Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы.
– Тяжело! – сказал режиссер с боярской бородой. – Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается?
– И мистики нельзя.
– Какой кошмар!
– Фокстрота нельзя.
– А детектив разве позволяют?
– И детектива нельзя.
– Просто бедлам.
– До чего докатились!
– Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя.
– За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют.
– И тайны минаретов не дозволяются.
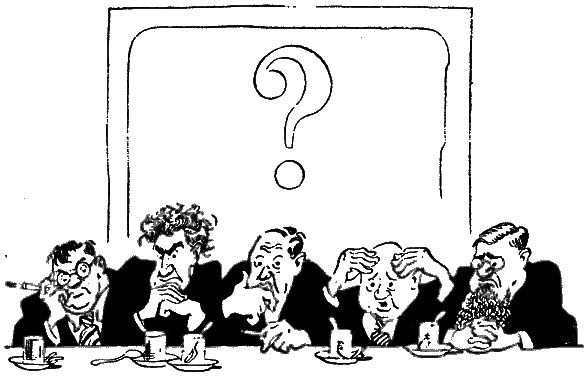
– С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят – примитив. Невыразительно.
– Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер.
– Кстати о Петроний. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, – у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло хватают?