- Вот спесивая! - вспыхнула Кэте.
- Ну и что ж! Ведь она живет в другом мире, не нашему чета, - попытался оправдать ее молодой подмастерье.
- Низко же ты себя ставишь! - укоризненно заметила она. - Эх, да будь я на твоем месте, я бы не ударила лицом в грязь. Смелость города берет.
Он добродушно усмехнулся.
- Ты думаешь, раз цех золотых дел - самый благородный из цехов, так стоит мне только сделаться мастером, и можно смело явиться пред се светлые очи? - И уже серьезно продолжал: - Я бы рад изготовить свой мейстерштюк * и стать мастером, да только не примут меня в мастера ни здесь, ни в другом месте. Вот если б я был сыном мастера, тогда иное дело. Для них двери открыты. А другим они ходу не дают, и как бы ты ни проявил себя, тебе не найдется местечка среди мастеров. Наша доля - быть “вечными подмастерьями”, а если бедняга впадет в отчаянье, что ж, кабак да большая дорога для всех открыты! Немало искусных подмастерьев скитаются бесприютными бродягами. Скоморох, что был с канатным плясуном в Ротенбурге, тоже из нашей братии: бывший подмастерье сапожного цеха. Каспар разговорился с ним… Так о чем это я? Да, что я низко себя ставлю. Вот уж нет. Чего ради? Ты думаешь, одних знатных господ бог создал по образу и подобию своему? А на таких, как мы с тобой, только материал испортил? Как какой-нибудь косорукий мастеровой? Нет, нет, с теми людьми у меня нет и не может быть ничего общего! Никогда!
- А все-таки… - начала было Кэте и замялась, покраснев до корней волос, но, пересилив себя, продолжала: - А все-таки не на шутку влюбился в нее?
- Нет, не бывать этому никогда! - с жаром воскликнул он и, вскочив на ноги, заметался по комнате. - Ты ведь знаешь, какое зло они мне причинили! Но если б ты знала все! Нет, этому никогда не бывать!
- Я все знаю, - тихо сказала она и с умоляющим взором протянула ему руку.
Он отбросил непокорную прядь со лба, посмотрел на Кэте долгим взглядом и, присев рядом с ней на скамью, уже сдержанней продолжал:
- Если б ты знала, какое детство выпало мне на долю!
И он начал рассказывать о той мрачной, унылой поре, когда он рос без отца и без матери, а Кэте с глубоким сочувствием ловила каждое его слово.
- Да и как могло быть иначе? - продолжал он свою печальную повесть, - ведь бабка только и жила надеждой, что карающий меч господний поразит виновных, и когда говорила об этом, мне мерещилось кровавое зарево, полыхавшее в ночном небе. Только когда меня отдали в ученье в Гейльброн, я впервые почувствовал, каким беспросветным мраком была окутана до тех пор моя жизнь. И жить-то по-настоящему я стал только в годы странствий и ученичества. Я увидел, как прекрасен мир, я ощутил тепло солнца, я полюбил свое искусство и возмечтал стать таким же мастером, как итальянские ювелиры, а ведь там есть замечательные мастера!
Он замолчал. Его синие глаза блестели, но в них светилась грусть.
Кэте положила ему на плечо руку и сказала:
- А потом ты встретил ее, в тысячу раз более прекрасную, чем все, что ты до тех пор видел и о чем мог мечтать. Ты сделал для нее венец, ты увидел ее во всем блеске красоты, и она завладела всеми твоими помыслами.
Он со вздохом поник головой, и горькая усмешка искривила его губы.
- Она околдовала тебя, - прошептала Кэте.
- Может, ты и права, - глухо проговорил он. - Разве я мог забыть все, все? Ведь тогда в “Медведе” меня точно ножом полоснуло по сердцу и завертело вихрем. Я потерял голову и пришел в себя только в часовне пречистой девы, за Таубером. Там я увидел своего деда, отца и мать. Они сурово, с укоризной смотрели на меня, указывая на окровавленное тело спасителя. Я изменил им! Я предал их! - И он закрыл руками лицо.
Девушка оперлась на его плечо.
- Изменил из-за нее! - простонал он. - Нет, я вырву ее из своего сердца! - и вскочил с места.
По смуглым щекам Кэте катились слезы. Повернувшись к нему мокрым лицом, она сказала:
- Конечно, она из тех, кто смотрит на нас, бедняков, как на грязь под ногами, но все равно, когда любишь, вырвать из сердца не так-то легко.
- Нет, так должно быть, и так будет! - с решимостью воскликнул он.
Кэте сидела, опустив глаза. Он все еще метался по комнате. Когда он остановился перед ней, она подняла глаза и, зардевшись, сказала:
- А я знаю, что может спасти тебя от ее чар. Ты ведь полюбил ее, пленившись ее красотой? Это не настоящая любовь.
Она медленно поднялась со скамьи, заглянула ему в глаза, обвила его голову обеими руками и трижды поцеловала в губы.
- Ну что, как рукой сняло? - смущенно рассмеялась она, пытаясь вырваться из его объятий, но Ганс, вне себя, не выпускал ее, в замешательстве бормоча: “Кэте, о Кэте!”
Тогда она обняла его за шею и прошептала:
- Ах, Ганс, я так люблю тебя!
Маленький Мартин, верхом на палочке, остановился перед ними, разинув от изумления рот, но они его не замечали.
Загудели колокола, призывая к вечерне. Кэте вздохнула. Еще раз потянулась она к белокурому парню своими рдяными, как спелые вишни, губами, он же воскликнул:
- Эх, будь это набатный колокол!.
Приблизительно в это же время трактирщик Габриэль Лангенбергер стоял в кабинете первого бургомистра на Дворянской улице. Хозяин “Медведя” вырядился в штаны канареечного цвета до колен, огненно-красные чулки и ярко-зеленое полукафтанье, отчего его бледное дряблое лицо гоже казалось зеленым. Досточтимый герр Эразм в подбитом мехом шлафроке - по случаю легкого недомогания - с трудом удержался от смеха при виде столь яркого оперения. Вошедший остановился на почтительном расстоянии от хозяина, и по привычке его маленькие глазки забегали по богато обставленной комнате.
Но бургомистру скоро стало не до смеха, ибо Габриэль Лангенбергер, повинуясь голосу гражданского долга, пришел донести главе города, что вчера, в базарный день, несколько крестьян, собравшись в отдельной комнате его трактира, вели промеж себя опасные речи. Они горько жаловались, что жить стало невмоготу от всяких податей, налогов да десятин, а особенно от новых сборов - копытного да питейного, что теперь ни одному крестьянину во всей округе не под силу иметь коровенку и что они могли бы сбросить с себя ярмо и установить евангельскую свободу, если бы объединились и действовали все заодно, как лехрайнские, верхнешвабские и шварцвальдские крестьяне. Всего их было человек пятнадцать из разных деревень, но лично ему известны лишь оренбахский староста Симон Нейфер, Лингарт Бреннэкен по прозвищу Большой Лингарт, из Шварценброна, свояк владельца “Красного петуха” да Леонгард Мецлер из Бретгейма. Из горожан никого не было.
Эразм фон Муслор записал на листке имена и похвалил трактирщика за его гражданскую доблесть, но голос его звучал холодно. Столь же холодно простился он с Лангенбергером, после того как тот до конца облегчил свою совесть. Жаль только, что ему не удалось подслушать весь разговор, у него была пропасть народу с рынка, добавил он и с низким поклоном попятился к двери. На крыльце он остановился и с недовольным видом нахлобучил свою войлочную шляпу. Столь важные сведения заслуживали, по его мнению, совсем иного приема. Выйдя на улицу, он ядовито усмехнулся и сплюнул. Нет, пусть на будущее время эти господа из магистрата сами о себе заботятся. Что до него, то он умывает руки.
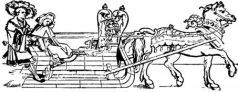
Катанье на санях
С гравюры Ганса Зебальда Бегама
Оставшись один за письменным столом, бургомистр потер свой узкий треугольный лоб, словно пытаясь стереть какое-то пятно. Доносы он приветствовал, но доносчиков гнушался. Впрочем, он отнюдь не был склонен переоценивать это сообщение. Эка важность! Кучка каких-то мужланов! Ведь они вечно недовольны. В дождь подавай им солнце, а в ведро - дождь. В неурожайный год они жалуются на голод, а в урожайный - на низкие цены на хлеб. Ропот и мятежи среди подданных других феодальных владетелей его нисколько не тревожили: это их дело, пусть сами выкручиваются, как могут.