Загадка стала проясняться, когда началась Четвертая соната. Заразительное буйство красок, гармоний, переполнившее предыдущую сонату, в Четвертой словно отошло на второй план. Нечто новое — волевое, сильное и вместе с тем сосредоточенное и серьезное стало главным здесь. Это уже другой Прокофьев. В первой части энергия, не раскрываемая до конца, словно сдерживается мощной рукой. Вторая часть сонаты уже не требует этого укрощающего усилия. Скорее наоборот. Начинается она в нижнем регистре, как будто из глубины сознания. Звуковые краски приглушены. Пианист оцепенел, задумавшись над клавиатурой. Постепенно светлея, медленно развертываясь, наплывает дума. Она не отпускает вашего внимания ни на минуту.
Эта соната — одна из любимых Святослава Рихтера. Не потому ли, что в ней большой простор для размышлений о жизни, философского углубления в себя? Любопытна история ее создания. У нее есть подзаголовок, сделанный композитором: «Из старых тетрадей». В 1908 году в консерватории он начал писать новую сонату, но не закончил и забросил работу на неопределенное время. В том же году сочинил Прокофьев и новую симфонию. Однако ее судьба оказалась несчастливой. Через несколько лет, взглянув на эти свои юношеские сочинения, композитор вдруг увидел, что первая часть сонаты и анданте из симфонии как будто созданы друг для друга. Так родились две части новой — Четвертой — сонаты. Осталось дописать третью часть — финал, который был начат еще в консерватории. Но он, видимо, никак не поддавался. Нужно было найти логически законченный выход глубоким и серьезным размышлениям о жизни, которые легли в основу первых двух частей.
И вот Святослав Рихтер играет финал. Кажется, целый сноп света ворвался в зал. Пожалуй, такой финал произведения особенно понятен сейчас. Но в нем чувствуется не только отдохновение от сложных переживаний предыдущих частей, не только радостный вихрь. Музыка этой части несет в себе нечто более важное. Какой-то взволнованный монолог. Вспомним, при каких обстоятельствах композитор сочинял ее.
Это была осень 1917 года! Прокофьев жил в это время в Кисловодске. Из Петрограда пришли известия об Октябрьской революции, и он решил немедленно ехать в столицу. «Но пришел поезд с разбитыми окнами, из которого высыпала испуганная буржуазия», — вспоминал в автобиографии композитор. Ему сказали, что он «сошел с ума», что в Москве и Петрограде стреляют, что он вообще не доедет…
Так вот она, буря финала — предчувствие нового, свежий ветер революции. Пусть не все еще в происходящих событиях было ясно молодому композитору, но его творчество этих лет само выражало оптимистическое восприятие жизни, было ясным лучом на фоне упадочнических настроений большей части буржуазной интеллигенции. Не случайно в 1918 году А. В. Луначарский сказал ему: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни — нам надо работать вместе».
Мелодии в сочинениях существуют не сами по себе. Они несут определенную мысль автора, отражают его восприятие жизни. Можно ли бурное революционное наступление XX века выразить одними плавными певучими мелодиями? А если сам творец, под стать эпохе, имеет характер новатора, не любящего проторенных путей? Если и ритм и темп жизни — другие, если противоречия классов достигли гигантских масштабов? Если все это носится в воздухе и этим воздухом дышит художник? Тогда, очевидно, и рождаются такие творцы, как Прокофьев.
И вот что самое поразительное. На наш слух, слух людей середины XX века, не производят «ужасного» впечатления те произведения Прокофьева, которые когда-то вызывали подлинные скандалы. Вспомним ту же Скифскую сюиту.
Очевидно, в музыкальном произведении не нужно искать того, чего в нем нет и заведомо быть не может. Как-то Прокофьев сказал, что один и тот же композитор может думать то сложно, то просто. Да, каждый замысел рождает и свой характер воплощения. Значит, нужно учиться понимать сложную музыку, чтобы, научившись, разделять с автором его большие мысля и глубокие чувства.
Прокофьева нужно понимать таким, какой он есть. И учиться его слушать, чтобы не терять почву под ногами при первых же звуках такой сонаты, как, например, Шестая.
Святослав Рихтер, первый исполнитель этого сочинения после автора, так определяет смысл сонаты: «С варварской смелостью композитор порывает с идеалами романтики и включает в свою музыку сокрушающий пульс XX века». Призываю на помощь биографию Прокофьева. Да, этот пульс, пожалуй, еще и зловещий. Композитор начал сочинять Шестую сонату в 1939 году, а закончил в 1940-м. Коричневая чума германского фашизма уже расползалась по Европе — началась вторая мировая война. И в музыку не могло не проникнуть это нашествие злых сил и тревога большого художника за судьбы мира…
Кончилась первая часть. Из этой черной глубокой бездны начинается подъем, возвращение к жизни, к ее смыслу. Вторая часть — аллегретто — более уравновешенная, просветленная. Третья — в темпе очень медленного вальса. Вся она — успокоение и задумчивость. Но этого мало. Пассивность не может противодействовать той, первой теме, окончательно победить ее, подняться над ней. И тогда наступает четвертая часть — финал.
Снова порыв. Но в нем уже не внешний блеск изобретательного финала Второй сонаты, не взволнованное предчувствие нового (финал Четвертой). Горячая вера в торжество света, воля, которая становится почти осязаемой силой. Победа жизни. Таким мне кажется смысл финала Шестой сонаты Прокофьева.
Овациям не было конца. Очень любят Святослава Рихтера москвичи. Да и не только москвичи. Концерты Рихтера везде выливаются в праздник музыки. И кто знает, сколько в этот памятный для меня вечер было в зале людей, которых замечательный пианист навсегда подружил с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым.
Когда-то Петр Ильич Чайковский писал не без горечи: «Предубежденный человек может примириться с оперой после нескольких виденных представлений, но сколько нужно времени, чтобы хорошая симфония могла быть оценена массой публики по достоинству? Однако ж, — признался композитор, — несмотря на весь соблазн оперы, я с бесконечно большим удовольствием и наслаждением пишу симфонию…»
Торжество симфонии
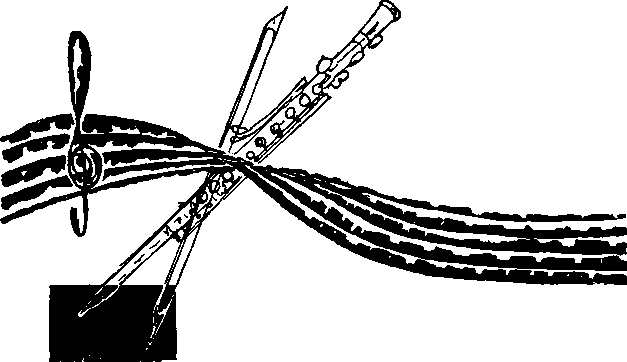
В чем видел Чайковский «соблазн» оперы и почему он все-таки предпочитал ей симфонию?
«Опера имеет то преимущество, что дает возможность говорить музыкальным языком массе. Уже одно то, что опера может играться хоть сорок раз в течение сезона, дает ей преимущество над симфонией, которая будет исполнена раз в десять лет!!!»
Но симфоническая музыка, по мнению композитора, стоит «гораздо выше» оперной, потому что условия сцены в значительной степени парализуют чисто музыкальное вдохновение автора. «В симфонии… я свободен, нет для меня никаких ограничений и никаких стеснений».
Казалось бы, эти слова Чайковского о преимуществах одного и другого рода музыки совершенно справедливы, и не стоит больше говорить на эту тему. Так бы и нужно сделать, если бы не сидели крепко в памяти слова композитора, широко известные всему миру:
«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору».
Как соединить это желание Петра Ильича, эту великую веру в его исполнение, которая слышится в словах Чайковского, с тем, что он с наибольшей охотой работал в самом трудном для восприятия и понимания широкой слушательской аудитории жанре музыки? Для композитора приведенные выше слова не были красивой фразой. Он считал музыку «откровением», «лучшим даром для человечества». «Это не соломинка, за которую только едва хватаешься, это верный друг, покровитель и утешитель, и ради его одного стоит жить на свете».
Да, он «с бесконечно большим удовольствием и наслаждением» писал симфонии и… с горечью думал о том, «сколько нужно времени, чтобы хорошая симфония могла быть оценена массой публики по достоинству».