Башня стояла посреди комнаты и снова почти что упиралась в потолок. Она была соединена с главной частью модели.
Журавленко, лёжа на полу, смазывал оси низеньких колёс, на которых модель передвигалась.
Он быстро поздоровался и показал на стул, на подоконник, — мол, пожалуйста, садитесь, смотрите, только не мешайте.
Михаил Шевелёв сел на подоконник. Лёва и Маринка стояли рядом. Им не сиделось.
Журавленко закончил смазку, медленно обошёл модель, осмотрел.
— Можно начинать? — спросил Сергей Кудрявцев.
— Погодите. Приготовьте контейнер.
Лёва увидел рядом с собой открытый ящичек. В нём лежали маленькие кирпичи. У ящичка была дверца с рычажком. Лёва догадался, что это и есть контейнер, и отнёс его папе.
Возвращаясь к окну, Лёва заглянул в глазок одной из труб модели, что-то заметил и схватил Маринку за руку:
— Смотри!
Маринка заглянула в глазок и просияла:
— Наши?
— А то не видишь!
— Папа, — зашептала Шевелёву Маринка. — Видишь, внутри сцеп ленные проволокой платформы? Это мы проволоку загибали!
Журавленко тянул от модели к штепселю электрический шнур.
— Можно, — сказал он Сергею Кудрявцеву.
Кудрявцев несколько раз повернул рукоятку — и башня с моделью на глазах начали укорачиваться. Когда стали совсем низенькими, Журавленко сказал:
— Так. Контейнер на место. Включаю.
Кудрявцев поставил контейнер под воротца башни, и Журавленко воткнул вилку в штепсель.
Тотчас послышалось ритмичное пощёлкивание. Спустился крюк, подцепил контейнер, через секунду бросил его пустым на то же место. А с другой стороны модели брызнул на разостланную по полу фанеру раствор, и начали ложиться кирпичи так быстро, что уследить было невозможно.[1]
Кирпичеукладчик со всей моделью двигался по комнате туда и обратно, каждый раз оставляя точно уложенный ряд в два с половиной кирпича толщиной.
Михаил Шевелёв рванулся от окна к кирпичеукладчику.
Стена поднималась всё выше.
Вместе с нею поднимались машина с башней.
И вместе с ними поднимался склонившийся над кирпичеукладчиком Михаил Шевелёв.
Он ревниво и строго следил, как наращивалась стена.
Через несколько минут он так же строго сказал:
— Не верил. Виноват.
Журавленко и не слышал. Он подошёл к поднимавшейся вместе с кирпичеукладчиком кабине и нажал на ней кнопку.
Кирпичеукладчик продолжал двигаться вдоль стены, но перестал укладывать кирпичи. Он делал пропуск.
Журавленко отпускал кнопку — снова ложились кирпичи, нажимал — снова получался пропуск.
И вот уже почти готовы два оконных проема…
Но что такое? Почему Журавленко бледнеет? Почему бросается к штепселю, выдёргивает шнур? Почему кричит:
— Поддержите её!
Потому что остальные смотрят, как строится стена, а он следит за всем, и видит, как начинает сгибаться и вот-вот упадёт, как подкошенная, опора всей машины — башня.
Шевелёв, Кудрявцев и Лёва с Маринкой поддерживают её, как больную, как живую.
А Журавленко отдирает плоскогубцами, отбивает молотком всё, что соединяет башню с головной частью машины. Потом говорит:
— Положите её.
И башню осторожно кладут на пол. Журавленко стоит над ней и смотрит мимо, в окно, сухими, жёсткими, бессонными глазами.
Маринка смотрит на него и почему-то держится за Лёву, и почему-то ей до озноба холодно.
Михаил Шевелёв тихо спрашивает:
— Ошибка в расчёте?
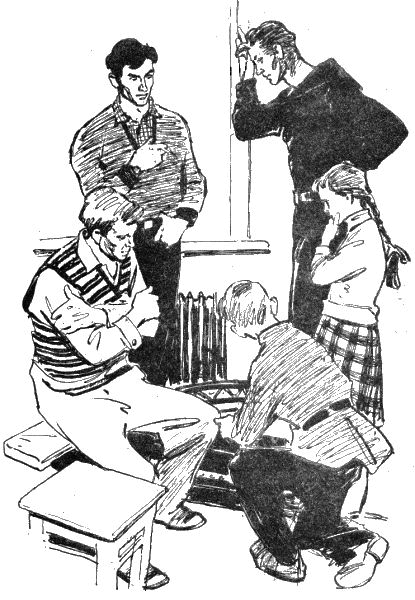
Журавленко, напряжённо думая, так, словно сам в себе ищет что-то злое и страшное, говорит:
— Да…
Потом ещё раз, твёрже и определённее:
— Да…
Сергей Кудрявцев кричит:
— Что ж теперь? Опять работы на годы? Опять всё сначала?
— Не знаю, — отвечает Журавленко. — Может быть, всё сначала.
А лицо у него такое, что Маринка и Лёва не в силах от него оторваться и не в силах на него смотреть.
Глава девятнадцатая. Не пора ли сдаться?
Журавленко лежал на раскладушке. Остальные ушли. А перед уходом разобрали, по совету Шевелёва, недостроенную стену и обтёрли кирпичи, пока не успел засохнуть и скрепить их раствор.
Журавленко лежал на спине, не сняв комбинезона, сцепив под затылком ладони, тихий и бессильный. В его тело словно вползла вдруг вся усталость за все шесть лет, навалилась на сердце, на каждый нерв, на каждый мускул — и поборола.
У него хватало сил только на одно — на то, чтобы над собой издеваться. Он не прощал себе ошибок, не смягчал их, не искал им оправдания. Он называл себя самыми ненавистными ему словами: верхоглядом, тупицей, бездарностью.
Он думал: «Если ты посмел решить, что можешь осуществить свой замысел сам и отдать его людям, если ты согласился потратить на это свои лучшие годы, — да, самые лучшие: от двадцати семи до тридцати трёх лет — так изволь быть достойным своего решения. А ты мазила. Таких выводят из игры».
Если бы в эту минуту сидели рядом с ним его друзья — Илья Роговин и Борис Ковалевский — и адски ругали его, ему было бы легче. Но они уехали, гордясь им, несмотря на прежние споры, и радуясь за него.
Забежав попрощаться, Илья Роговин сказал: «Имей в виду: одна из первых твоих машин должна быть послана в Казахстан. Нам она нужнее, чем в Москве и Ленинграде».
Журавленко вспомнил это и посмотрел на модель. От неё, как руки, тянулись к опоре трубы в глазках. И не к чему было тянуться. Не было больше опоры.
— Не хватит ли? — спросил себя Журавленко. — Не пора ли сдаться?
И это «сдаться» хлестнуло его так, что он вскочил.
Он сказал вслух:
— Вы понимаете, что об этом не может быть речи?
Он поерошил волосы, провёл ладонями по глазам, будто снял какую-то мутную плёнку, и вежливо попросил себя:
— Нельзя ли умнее и спокойнее?
Он достал папку, сел за письменный стол и вдруг, снова ослабев, уронил голову и уткнулся в папку лицом.
Так прошла минута, другая…
В квартире было как-то безжизненно тихо. Слышалось только тиканье будильника у соседа за стеной. Время шло безостановочно, без минуты, без секунды перерыва.
Этот отсчёт времени Журавленко слушал, как укор.
Буквально через силу он заставил себя встать, пойти в ванную и принять душ. Он растёрся полотенцем, докрасна взбудоражив кожу, и надел чистую рубашку.
Вместе с бодростью он почувствовал сильный голод и обрадовался ему, как снова пришедшей, горячей, ощутимой жизни.
Он вскипятил на газовой плите чайник, напился чаю и с таким наслаждением съел чёрствый батон с давно купленным, засохшим сыром, будто это было лучшим кушаньем на свете.
— Теперь ты хоть немного похож на человека, — сказал Журавленко и снова сел за письменный стол.
Он начал проверять расчёт каждого узла, каждой детали своей машины.
Глава двадцатая. О коротком слове — мы
А как повели бы себя мы после такого пуска модели, если бы знали о Журавленко то, что здесь о нём рассказано, — то есть немного больше, чем известно Кудрявцеву, Шевелёву, Маринке и Лёве?
Ведь мы с вами знаем, о чём думал и что делал Журавленко, когда все ушли, а они этого не знают.
От коротенького МЫ — многое зависит. Оно обладает магической силой. Каждый из нас занимает в нём бо́льшее место и имеет бо́льшую силу, чем нам иногда кажется. МЫ — это и сердце каждого из нас, и голова, и каждый твой и мой поступок.
Поэтому очень важно знать, как же повёл бы себя, будучи на месте Лёвы или Маринки, тот, кто эту книгу читает.
Разочаровался бы и не стал больше помогать Журавленко?
Продолжал бы помогать, как прежде?
Или ещё горячее?
Напиши об этом, не откладывая ни на минуту, и отправь письмо по адресу: Ленинград, Дом детской книги. Устроим для этого перерыв.
1
В этой книге описывается модель изобретателя И. Попова.