Эннекен повторяет, что распространенность того или иного мнения еще не свидетельство его правильности. В науке только низкий ум спешит соглашаться с толпой лишь потому, что она составляет большинство. Сам себя обманывает тот, кто слепо верит. Можно ли, не будучи убежденным, что-нибудь одобрять, когда столь мало нужно, чтобы погас как и свет нашей совести, так и свет науки? Куда большее счастье служить истине и не соглашаться с господствующим мнением, чем прислуживать ему, идя наперекор правде.
Не напрасно человек наделен зрением. В угоду фиглярам и невеждам он не должен смыкать веки и быть неблагодарным к природе, пренебрегая разумом, коим она его одарила. Следует ли отказываться от способности познавать – бежать, так сказать, от самих себя? Нет, с пафосом отвечает Эннекен, пытливый человеческий взгляд – залог достоверных знаний, которые создают новую картину мира! Перед ней же распадутся в прах все суеверия и софизмы.
На высокой кафедре, разгоряченный речью, стоит Эннекен, чуть поодаль на другой кафедре, меньшего размера – Бруно, внимательный и сосредоточенный.
– Дух человеческий, – продолжает Эннекен, – был прежде заточен в теснейшее узилище, откуда мог только через щели глядеть на небо. Но, осознав собственное могущество, он отваживается на полет в бесконечность. Рушатся сферы, придуманные безумием философов и математиков. Исследования, которые ведутся одновременно чувствами и разумом, несут прозрение слепцам. Учение о бесконечности и единстве вселенной дает нам истинное представление о природе. Если бы человек оказался на Луне или на каком-нибудь другом небесном теле, он нашел бы целый мир, который был бы хуже или значительно лучше нашего, – один из неисчислимых миров, движущихся в неизмеримом море эфира. Разум человеческий не сдавлен больше оковами фантастических сфер!
Он, Эннекен, убежден, что эти мысли в конце концов восторжествуют, хотя сейчас их повсюду и встречают хулой. Слепые не различают света, и если зрячий видит солнце, то надо ему верить. Никогда глупцы, сколько бы их ни было, не заменят одного мудрого.
– Так дозвольте, – воскликнул Эннекен, – по крайней мере сомневаться в правильности обычных представлений, пока не обсуждены еще наши взгляды! И пусть нам в этом не мешают выученики Аристотеля, которые чем больше уступают в проницательности своему наставнику, тем сильнее восстают против наших воззрений!
Большинство тех, кто участвует в публичных диспутах, – говорит Эннекен, – стремятся скорее победить и прославиться, чем обрести в споре истину. Я же выступаю с другой целью. Хочу, чтобы из нашего диспута каждая сторона вынесла назидание. В серьезных диспутах нередко бывает, что те, кто вначале увяз в величайших заблуждениях, постепенно от них исцелялись.
Эннекен призывал отказаться от предубеждений и посмотреть на мир глазами разума. Ноланец явился сюда, чтобы узнать, какими доводами можно его опровергнуть. Ничто так не вредит науке, как уверенность, что всё уже известно. Поэтому многие высокомерные ученые не терпят возражений и не углубляются в исследования. Согласимся на время, будто мы ничего не знаем и можем здесь кое-чему научиться. Попытаемся переубедить противника, тщательно взвесим его аргументы и по совести или укрепимся в своих взглядах, или вскроем их ложность.
Он призывал к объективности, а в ответ ему неслись оскорбительные реплики.
– Каждому должна быть предоставлена, – Эннекену трудно было перекричать шум, – свобода слова согласно принципу: «Выслушайте и другую сторону!» Поэтому прошу вас, высокоученые господа, при рассмотрении тезисов не выступать в роли людей пристрастных и фанатичных, а быть справедливыми судьями, чтобы не столь красноречием и пылом, сколь весомостью аргументов подтвердить ваше собственное мнение или разбить противоположное!
Когда Эннекен кончил и гул возмущенных голосов затих, воцарилось молчание. Кто встанет на защиту Аристотеля и сокрушит дерзкие тезисы Ноланца? В первых рядах сидели с каменными лицами университетские профессора. Вздорный король разрешил диспут, но это вовсе не значит, что кто-либо из уважаемых ученых снизойдет до спора с безбожным философом. Многозначительным и долгим было молчание. Наконец на кафедру поднялся какой-то молодой человек. Это был Рауль Кайе, адвокат. Он начал свою речь вызывающе развязно. Почему никто из профессоров не пожелал выступить? Да потому, что все они находят Ноланца недостойным ответа!
Кайе изощрялся в оскорбительных выпадах против Бруно. Он считает своим долгом оградить Аристотеля от клеветы, которую возводит на него Ноланец. Велеречивый адвокат говорил очень длинно. Воистину чем меньше доводов, тем пространней речи! Он приводил известные всем Аристотелевы тексты, обильно цитировал его толкователей, блистал эрудицией. Достойный выученик парижских схоластов! Его подбадривали приветственными возгласами и аплодисментами. Молодчина, Кайе!
Странные вещи происходят на этом публичном диспуте! С бранью по адресу Бруно выступает не какой-нибудь отъявленный приверженец Лиги или рьяный кальвинист, а один из «политиков» – тот самый Рауль Кайе, что, очаровавшись «Надгробным словом» Дюперрона, посвятил ему сонет. Дюперрон не имел ничего против, чтобы его считали духовным наследником Ронсара. Благоволение этого влиятельного вельможи позволило Кайе отказаться от адвокатских занятий. Разве без ведома своего покровителя он бы осмелился нападать на Ноланца? Или, может быть, и само разрешение на диспут было дано не без задней мысли? Венсеннская академия мстила человеку, который с явным вызовом называл себя «Академиком ни одной из академий»? Видно, ноланская философия была и для «политиков» слишком радикальной!
Длинная речь Кайе веских аргументов не содержала, но изобиловала грубостями. Оратор лез из кожи вон, чтобы заставить самого Бруно ввязаться в спор. Но тот не поддавался. Волнуясь, стоял он на своей кафедре и слушал. Юнец, ничего не понимающий в философии, под одобрительные возгласы присутствующих называл Бруно суетным бахвалом, который злонамеренно оболгал Аристотеля. По существу представленных тезисов ничего сказано не было. А профессора, ответившие на положения Ноланца презрительным молчанием, теперь изо всех сил поощряли издевательские наскоки Кайе.
Они старались истощить его терпение. Но Джордано устоял. Отвечать Кайе он предоставил Эннекену. Бруно хорошо знал условия диспута и видел, чего добиваются враги. Вступать в спор он имел право только в том случае, если бы его ученик оказался припертым к стенке. Тезисов Ноланца Кайе ни в какой степени не поколебал. Поэтому брать самому слово значило признать неспособность Эннекена и умелость его оппонента.
Без особого труда Эннекен разбил аргументацию противника. Это вызвало новый взрыв злобы. Ему не давали говорить. Такой ответ их не удовлетворяет! Пусть, наконец, раскроет рот его отмалчивающийся наставник!
Кайе снова вызывающе и нагло кричал с кафедры. Пусть Ноланец не прячется за спину своего ученика, а отвечает сам! Со всех сторон на Бруно сыпались оскорбления. Вот вам и ученый диспут в первом университете мира, долженствующий разрешить важнейшие философские проблемы!
Джордано повернулся и пошел к выходу. Вдогонку ему несся рев возмущения. Многие повскакали со своих мест. Он не успел выйти, когда его окружила беснующаяся толпа. Школяры, науськанные профессорами, преградили ему дорогу. Они заставят его отречься от клеветы, которую он возвел на Аристотеля!
С великим трудом удалось Ноланцу вырваться из их рук.
Глава четырнадцатая В Германии
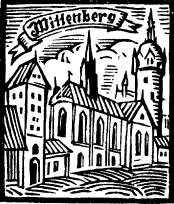
Когда-то он шутливо писал о Германии как о стране беспробудных пьяниц, «милой и славной стране, где щитами служат тарелки, шлемами – кухонные горшки и посуда, мечами – кости, воткнутые, точно в ножны, в соленое мясо, стране, где погребков, харчевен и трактиров больше, чем самих домов». Но Бруно знал, что у немцев есть много ученых, хорошие университеты, превосходные типографии. Поспешно уехав из Парижа, он направился в Германию.