Если станете поступать так, если станете таковыми и будете вести себя подобным образом, то вы вписаны будете в книгу жизни, вымолите милость у этой воинствующей церкви и получите славу в будущей торжествующей церкви, в которой да живет и царствует господь Во веки веков. Аминь!»
Глава двенадцатая Цель человеческих усилий
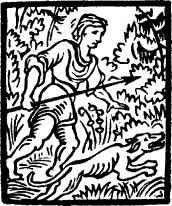
Нет, это уже слишком! Елизаветинская Англия, может быть, и рай для женщин, но совсем не для вольнодумцев и тем паче безбожников! В стране существуют суровые законы о цензуре, а Ноланец умудряется выпускать сочинения, одно возмутительней другого. Книги, правда, выходят с ложным обозначением места издания: на титульном листе «Пира на пепле» нет ни имени типографа, ни города; диалоги «О причине» и «О бесконечности, вселенной и мирах» будто бы напечатаны в Венеции; «Изгнание торжествующего зверя» и «Тайна Пегаса», вышедшая вместе с «Килленским ослом», – в Париже. Но кого могут обмануть такие хитрости? Из содержания самих книг, полных злободневной полемики, видно, что они издавались в Англии.
Елизавета жестоко преследует всех, кто противится «единообразию» культа. Верховная правительница церкви не желает дозволять обсуждения религиозных вопросов. Веровать в бога следует так, как повелела королева. Достается и непокорным католикам, и крайним пуританам, и всякого рода сектантам. Жгут книги, разбивают печатные станки, рубят руки, писавшие Неугодные сочинения.
Любое несогласие с королевой быстренько подводят под указы о карах за ересь и подстрекательство к мятежу. «Бунтарскими писаниями» объявляют все, что противоречит установленной догме. Архиепископ Уайтгифт, примас Англии, способен не хуже руководителей Святой службы находить повсюду преступников. Он следит не только за соблюдением касающихся церкви законов, но наказывает и за противные библии суждения. Деятельность возглавляемой им Высокой комиссии отличается таким произволом, что возмущает даже ближайших советников Елизаветы. Едва ли сама испанская инквизиция умеет так запутывать подсудимых вопросами, как это делают члены Высокой комиссии.
Английские почитатели философии и о древних мудрецах рассуждали не без оглядки. Приверженность к идеям Эпикура считалась, например, верным признаком атеиста и навлекала серьезные неприятности. Бруно должен был радоваться, что его книги легко сходили ему с рук. Они вызывали скандалы, взрывы вражды, поток брани. Но это пустяки по сравнению с теми карами, которым в Англии подвергали еретиков и безбожников.
Что спасало его? Итальянский язык? Книги Бруно читали многие. Пылкое восхваление Елизаветы? Вольнодумцам это помогало далеко не всегда. Заступничество Мовиссьера? Оно было бы напрасным, если бы Ноланцем занялись всерьез.
Кто верил, что его книги и в самом деле печатались не в Англии? Сыскная служба находилась на высоте, да и Бруно меньше всего походил на конспиратора. Уолсингем распоряжался целой сетью шпионов как внутри страны, так и за границей. Бруно только еще собирался в Англию, а Уолсингему доносили из Парижа о его планах и осуждающе отзывались о проповедуемых им идеях. Своих людей Уолсингем имел среди священников, писателей, купцов, ученых. Даже шифры, коими пользовалась Мария Стюарт при тайной переписке, были ему известны: во французском посольстве он тоже держал осведомителя. Суровый Уолсингем не был поклонником Италии, итальянские книжки находил вредными для англичан. Лица, подобные Андерхиллу, «оксфордскому корифею», осмеянному Бруно, ему куда ближе, чем всякие любители философской новизны.
Никто из повинных в распространении недозволенных книг не мог рассчитывать на безнаказанность. Типографов карали тюрьмой и запрещали впредь заниматься своим ремеслом. Штрафовали книготорговцев и даже мастеров, что переплетали такие сочинения. Все диалоги Бруно печатал один и тот же лондонский типограф. Он, разумеется, на титульные листы имени своего не ставил. Но разве заведомо ложные данные о месте издания уберегали от неусыпного надзора, который осуществлялся над печатнями? Не потому ли выходили в свет сочинения Бруно, что Уолсингем в угоду любимому зятю, Филиппу Сиднею, до поры до времени смотрел на это сквозь пальцы?
Однако всему приходит конец. «Тайна Пегаса» оказалась слишком сильной даже для людей, бывших иногда не прочь поиграть в вольнодумство. Какая уж тут высокая философия! Это злейший памфлет, похуже тех, за которые в застенках ломают кости. Благо бы Ноланец издевался над католиками, а ведь он вообще всякую веру в Христа считает ослиностью и кощунственно пародирует библию! На «Тайну Пегаса» наложили запрет, нераспроданные экземпляры отобрали и уничтожили.
Неужели он обречен на молчание? Больше не будут издавать написанных им книг? Его, Ноланца, отдают во власть цензоров, свободного человека хотят превратить в пленника, подчиняющегося низкому и тупому ханжеству! Джордано не находит себе места от возмущения. Одно ему ясно: мало шансов на то, что его новые, еще не законченные работы увидят свет в Англии. Но вправе ли он бездействовать хоть миг, когда идет борьба с прислужниками зла и невежества?
Теперь модно сочинять сонеты, подражать Петрарке, воспевать любовь. Может быть, Ноланец, впавши в большую тоску, найдет утешение в том, что примет приглашение муз, которым из-за занятий философией уделял мало внимания, и станет тоже писать стихи?
Подвергнуть пороки осмеянию, пусть даже самому убийственному, – это далеко не значит возвести фундамент нового учения о нравственности. Бруно обещал рассмотреть этическую тему и в «положительном смысле». Он сдержал слово. В «Изгнаний торжествующего зверя» боги осудили Пегасского коня. Тот стал главной фигурой «Тайны Пегаса». При очищении неба, символизирующего человеческую Душу, занимаемое Пегасом место было отдано Божественному восторгу, Энтузиазму. Новая книга Бруно так и называлась «О героическом энтузиазме».
Нигде в других сочинениях Джордано не было столько стихов, как здесь. Его собственные сонеты перемежались со стихами Тансилло, одного из любимых им поэтов. Они как бы составляли костяк всей книги. Написанные прозой диалоги толковали и развёртывали их сложную символику. Джордано дал волю своему постоянному стремлению облекать мысль в поэтические образы. Но только ли приглашением Муз объясняется отличие «Героического энтузиазма» от прежних книг? Или цикл сонетов, где так много говорилось о любви, цикл сонетов с весьма своеобразно поясняющими их рассуждениями, – это, может быть, единственное, что после, стольких скандалов еще дозволялось Ноланцу на английской земле?
Он писал о любви, великой любви, той, что возвышает человека и делает его равным богам. Страницы пестрели привычными образами любовной лирики: мотылек, летящий на пламень свечи, оковы, что слаще свободы, юноша, угодивший ногой в силок страсти, несчастный, обезумевший от любви. Любовное безумие? Безумство героическое?
Название книги можно было читать по-разному. То же самое слово означало «восторг», «вдохновение», «неистовство», «энтузиазм».
Главной темой книги действительно была любовь. Но не любовь к женщине – любовь к истине, стремление к добру, страсть познания. В устах Бруно даже известные строфы из Петрарки приобретали совершенно иное звучание. Культу женщины Ноланец противопоставлял культ мысли, обожествлению красавиц – верность разуму, любовному неистовству – героический энтузиазм.
Он вернулся к дорогому ему с юности образу Героического энтузиаста, начертал свой нравственный идеал. Какова цель стремлений? Чему надо отдавать все силы, чем жить? Не привязывайтесь, призывает Бруно, к вещам, стоящим ниже человеческих способностей, как те, кто из жадности или нерадения навсегда приковал себя к недостойным делам. Не растратьте жизнь на пустяки!
Он настойчиво повторяет: «На легкие и пустые дела благородные умы не должны терять времени, быстрота которого бесконечна: ведь поражающе стремительно протекает настоящее и с той же скоростью приближается будущее. То, что прожито, уже ничто; то, что переживаем сейчас, – мгновение; то, что будет пережито, – еще не мгновение, но может стать мгновением, которое одновременно будет становиться и преходить».