— Мы можем гордиться — мы охраняем революцию!
Радостно пели моторы. И не говорите, что в них не
было прежнего упорства боевых дней!
Солнечными утрами, окрыленный старым боевым упорством, я носился над московскими окраинами. Самолеты с легкостью выделывали «мертвую петлю». Равняя боевые порядки, наши ^треугольники» сотрясали воздух. Вытянувшись в разведывательную цепочку, мы летели на запад... Мы знали: перед началом работы с заводских дворов на нас глядят тысячи глаз. Глядят так же, как в-боевые годы, когда, защищая мосты революции и переправы новой жизни, мы били своими старыми крыльями по вражеским пулеметам. А теперь разве не выросли у нас новые, могучие крылья?
Солнечными утрами радостно пели моторы и радостны были мы.
...В то утро мы взлетели в тумане. Не видать было заводских корпусов, поездов, строек. Кожаная куртка отсырела от тумана. А мой комсомолец с улыбкой раскрутил пропеллер.
— Контакт!
— Есть контакт!
Мы заняли свои места. Мотор работал четко, как всегда. Я осмотрел бензопровод, рули. И мы взлетели в шуршащем тумане.
Города не было. Глыбы тумана наваливались сверху, пробегали мимо, холодные, подозрительные.
На двадцатой минуте, когда высотомер показывал 860 метров, в моторе послышались перебои. С заграничными моторами это бывает. Я прибавил скорость, и перебои повторились. Уменьшил высоту и повернул обратно на восток, к аэродрому, чтобы проверить мотор.
Но спустя несколько секунд сильный взрыв вырвал у меня из рук штурвал. Бензопровод лопнул, и самолет загорелся.
Мой воспитанник сорвал с себя кожанку, бросил ее под ноги, чтобы сдержать вторжение огня. Я выключил мотор. Стало жарко. Шуршал то ли туман, то ли огонь. >
— Мы горим в тумане!
Кажется, это крикнул он. А может быть, произнес я. Или нелепая мысль в голове сама заговорила вслух?
Земля, конечно, уже недалеко. На землю — как можно скорее! На землю!
Но огонь бил снизу. Пропеллер, как колесо иллюминации, месил огонь. Дергался, умирая, мотор, захлебываясь смазочным маслом и бензином. Мне жгло лицо. Глаза тлели под раскаленными стеклами очков. Руки в кожаных перчатках словно облепило расплавленным железом. Мой воспитанник, наглотавшись огненного воздуха, свесил голову и хрипел.
— То ли еще выдерживали! — крикнул я, глотая пламя. В голову ломилась смерть с десятью пулеметами, от которых тогда унес меня старый «Спад».
В одну и ту же секунду я увидел деревья, отдаленные корпуса • домов и бежавших в тумане красноармейцев. И ощутил удар, как от вражеского аэроплана. Это была земля.
* * *
Два месяца я пролежал в больнице.
На третью неделю я очнулся от сна или от смерти. Почувствовал, что мой мотор еще работает. Почувствовал также, что у меня уже нет ни лица, ни рук, ни спины. Я спросил, вслушиваясь в собственный гнусавый, неприятный голос и радуясь, что сам еще слышу себя:
— Зачем вы меня разбудили?
И меня чинили, как мы когда-то чинили сбитые вражеские аэропланы.
Два месяца на меня накладывали заплаты. Нарастили на пальцах мясо вместо сгоревшего. Зарастили на лице рытвины, которые выжег горящий бензищ Потом сняли повязку с глаз, и я увидел холодное зимнее солнце в щель большого окна.
Но это было уже не то солнце, которое привык видеть летчик и к которому, говоря безо всякой лирики, так приятно лететь. Я смотрел на свои забинтованные руки, и в единственном глазу, показавшем мне все это, накипали злые слезы...
Все было хорошо.
Анна Балтынь любит меня по-прежнему, любит искалеченного, полуслепого, искромсанного* изломанного. Так же, как я когда-то любил старые, залатанные аэропланы. Но ведь это было когда-то!.. И я сказал ей:
— Ты же молодая. У вас в цехе много сильных, здоровых мужчин. Живых. На что тебе калека?
Но женщины и в наше время все такие же чудачки — даже старые пулеметчицы.
Все было бы хорошо.
На свете достаточно молодых летчиков. И хотя сгорел молодой Волков, а я...
Мне причиняют боль мои товарищи. Конечно, не нарочно. Полные сочувствия, они входят в мою инвалидскую, в мою пенсионерскую комнату. Они говорят о самолетах. Они рассказывают мне каждую мелочь — о каждом новом винтике, который прибавился в воздушных эскадрильях революции. Из своего окна я вижу ангары, о которых они рассказывают, Я мысленно вижу, как они там поднимаются в воздух и садятся... И их сочувствие, их разговоры выводят старого бойца из равновесия.
Я стараюсь молчать, потому что мое сердце — мой мотор — испорчен и не может работать помногу. А мои товарищи заставляют меня кричать. И я кричу — о том,
что никакие их разговоры не заменят мне счастья летать, '
что без высоты я не могу жить,
что самолет — мой самый верный, испытанный друг еще с гражданской войны,
что мне, инвалиду, нет больше смысла жить, я только напрасно ем хлеб республики, и лучше бы его отдали какому-нибудь молодому летчику.
И еще я кричу о нелепых случайностях, о неизбежности, преследующей даже нас, новых людей революции.
Надо же! В те боевые годы, летая на «этажерках», на «летающих гробах», я не сгорел. Тогда у нас только и были эти «гробы» — испорченные вражеские аппараты, и мы их чинили молотком и кусками проволоки. Не было бензина. Уже в 1918 году у аэропланов революции не было горючего. Мы тогда сами изобрели историческую «горючую смесь»: керосин, ополоски от нефти, какие-то масла. И она горела — ничего, не лопались никакие баки и бензопроводы. Мы не горели в полете. Потому что весь огонь надо было отдать врагу.
А теперь, когда мы летаем не на гробах, а на «коврах-самолетах», когда я знаю, как здоровье каждого ринтика в организме аэроплана, когда бензин у нас чистый и легкий, как воздух, в котором мы выделываем звонкие «мертвые петли», — вдруг случайность, неизбежность. И летчик — калека.
Я не виню мотор, за который иностранным буржуям уплачены немалые деньги. Не виню наши новые авиазаводы. Чушь собачья все эти комиссии, копавшиеся в кучках пепла и в моей больной голове, чтобы выяснить, как это я горел. Да, может быть, в воздухе я просто не был полезным до конца, ибо трудно найти себе самое полезное занятие в жизни.
Теперь, когда сердце у меня бесполезное, глаза и руки бесполезные для полета, я много думаю об этом. И я вынужден думать по-всякому.
Чего бы я ни отдал за то, чтобы полетать еще один-единственный раз! Но стоит заговорить об этом — товарищи подозрительно смотрят на меня и начинают утешать. Товарищи понимают. Но понимаю и я: они думают — поднимется в воздух этот невоенный инвалид, а там, как боец, — раз! Одним смертельным ударом врежется в землю.
Неправильно вы думаете, товарищи! Только лишний раз причиняете мне боль. Разве я не знаю, что самолет все-таки стоит дороже, чем старый, чиненый-перечиненый, бесполезный летчик?
Ладно, не давайте мне летать! Но тогда уж летайте сами. Летайте, товарищи, так, как мы летали когда-то — в девятнадцатом, в двадцатом году, будьте такими же бойцами, какими были мы. Потому что еще придется драться — за мосты революции!

Конрад Иокум
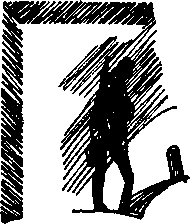
11894—1941)
ПРИКАЗ № 325
■
огда мы боролись за Советскую Латвию. В ее освобожденных городах и селах уже занималась заря новой жизни, призывая к восстанию весь мир.
Это была тяжелая борьба, как все битвы во имя революции. Мы уже прошли с боями добрую половину всей Советской Республики. На берегах Волги вместо унылых песен бурлаков звенели новые песни. Мы сражались с казаками, с теми самыми казаками, нагайки которых в 1905 году секли наших отцов. Красные бойцы дрались на подступах к Троицку, сражались на берегах Хопра, и не один стрелок сложил свою буйную голову в степях под Борисоглебском, на укреплениях под Перекопом. Мы сражались, чтобы построить новую Родину!